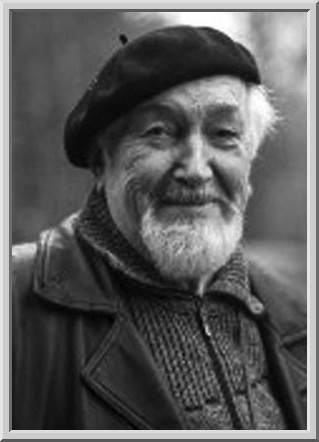Кадры блокадного детства
Кадры блокадного детства
Первый кадр — это новогодняя елка в конце декабря 1943 года для детей сотрудников 2-й психиатрической больницы, где в блокаду мама работала медсестрой.
Впервые увиденная украшенная елка, Дед Мороз, вручивший в конце непродолжительного праздника (из-за сильного мороза все были в том, в чем пришли с улицы) подарок: леденцовую конфетку в выцветшем фантике и несколько желтых горошин витамина.
Когда уже после войны мама спросила, понравился ли мне праздник, на котором мы только что были, я ответил: «Да, но вот Дед Мороз был не настоящий». — «А где ты видел настоящего?», — спросила мама. «У тебя на елке в больнице».
И напомнил ей все мельчайшие подробности того первого в моей жизни праздника.
Другой кадр (и наиболее часто вспоминающийся): я сижу одетым в пальто и шапку, повязанную сверху шерстяным платком, на высокой железной кровати. Из подушек и валиков от дивана, спальных подушек и одеяла сложена кабина моего «автомобиля». На передней подушке лежит вырезанный из дерева руль. Рядом — крышка от микрофона телефонной трубки. Брат сказал, что это телефон, и если мне станет страшно, то могу позвонить ему. Он услышит и прибежит с работы.
Мне кажется, что это не настоящий телефон. Но когда в комнате становится совершенно темно, а брата все нет, я кричу в крышку: «Минька (так я называл старшего брата Мишу, когда обижался), где же ты? Приходи скорей!»
Передо мной также лежит стальной рожок для обуви, а рядом на веревке, натянутой на спинке кровати, висит мельхиоровая миска. Это — средство для отпугивания крыс. Едва заслышав крысиную возню, я начинаю бить в свой набат. Сразу все смолкает.
На всю жизнь запомнилось, как из щели под дверью, ведущей в соседнюю комнату, вылезла большая крыса. Глазками, похожими на маленькие пуговки, она, замерев, уставилась на меня. Словно раздумывала: напасть или нет? Ее, видимо, смущало, что я сильно закутан.
Я схватился за рожок и принялся колотить по миске. Крыса испугалась и нырнула обратно под дверь.
Я постоянно был в напряжении и страхе, особенно когда темнело. Ничто не могло меня заставить слезть с кровати на подставленный стул и потом на пол. Это было опасно.
Однажды мы с мамой ушли в консультацию, и крыса прогрызла дыру в толстой крышке ящика буфета, который по сей день, как блокадная реликвия, стоит в той же комнате. Маму и брата это, видимо, здорово напугало, хоть они и говорили в шутку (видимо, чтобы ободрить меня): «Если бы Володька был на посту, этого бы не произошло».
Шли дни. Мама сутками пропадала в больнице, а брат, соорудив мне «автомобиль» для игры, уходил на работу.
Когда рассветало, я подолгу рассматривал разрисованное морозом окно. Рисунки на стеклах напоминали ветки елей из книжек. Иногда, когда выглядывало солнце, на этих еловых лапах вспыхивали огоньки. Стоило пошевелиться, как огоньки меняли свой цвет, из синих превращались в красные или зеленые.
Зимний день проходил быстро. Сумерки медленно вползали в комнату, и непроглядная тьма обволакивала меня.
Электрическая лампочка зажигалась редко и ненадолго. За дверью на кухне оживлялись мыши и крысы. Я утихомиривал их своим «набатом», и на время воцарялась тишина, нарушаемая лишь щелчками метронома из бумажной тарелки репродуктора.
Я ждал радиопередачи, раскачиваясь в такт щелчкам. Наконец, начиналась трансляция.
Особенно радостно становилось на душе, когда звучали песни: «Соловьи, соловьи…», «Вася-Василек», или американская «Зашел я в шумный кабачок»…
Однажды в комнату бесшумно вошла бабушка Маня, Мария Петровна. Я ее не помнил. Знал, что, как и вторая моя бабушка, она лежала в больнице.
Бабушка Маня бросилась ко мне. Долго целовала. Потом растопила круглую голландскую печку принесенными деревяшками. Помыла пол. Наконец, мы сели на скамеечку перед открытой заслонкой, и она начала мне читать наизусть сказки Пушкина. Она много их знала наизусть.
Через некоторое время выписалась из больницы и вторая моя бабушка Женя, Евгения Константиновна. У нее на ноге была страшная трофическая язва. Когда она снимала повязку, видна была кость. Бабушка Женя начала меня учить чтению, рисованию, нотной грамоте. В четыре года я уже хорошо читал.
Вспоминается такой эпизод. Меня записали в библиотеку в ДПШ, который открылся сразу после войны в помещении дворца Великого Князя Алексея Александровича на Мойке, 122. Теперь там Дом музыки. Я пришел поменять книжку со сказками. Библиотекарь сердито заметила, что я беру книжки, чтобы рассматривать картинки. «Нет, — ответил я, — чтобы читать». — «А, ну прочти, что здесь написано», — ткнула она пальцем в раскрытую страницу. Я свободно прочел… А вот расписываться не умел, и ставил только заглавные печатные буквы имени и фамилии.
Своим бабушкам, родным и двоюродным, я обязан тем, что выжил в начале 1942 года. Они отдавали нам последнее. Например, моя двоюродная бабушка Мария Константиновна Некрасова поменяла золотую цепочку от нательного креста на четвертину хлебной буханки, чтобы покормить нас с братом. А маме и брату, у которого вырос, в прямом смысле слова, на шее, обязан всей своей жизнью. Мама постоянно повторяла, чтобы Миша не спускал с меня глаз на улице, ведь меня могли украсть и съесть. Поэтому, выходя из дома, брат сажал меня на плечи и не снимал до возвращения домой.
Много еще испытаний выпало на долю нашей семьи — и в послевоенные годы тоже. Но мама всегда говорила: «Пережили блокаду, переживем и это».