Нарушение основного закона
Нарушение основного закона
На вечерней вахте его выкликнул дежурный по зоне. Ещё не легче… Устал за день, слякотища такая, дождь мелкий, беспрерывный, на расхлюстанных ботинках пудовые наросты глины. И как только дежурный выкликнул, рядом возник прямо из-под сырой земли Коняк.
– Я, пожалуй, дойду с тобой к штабу… Мало ли что эти оперы удумали…
– Провались! – сказал Рогов, не разжимая зубов.
И Коняк провалился, перестал с хрипом дышать за плечом.
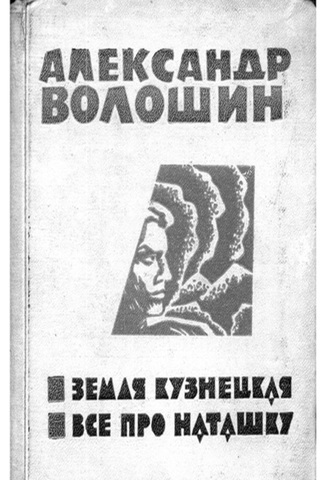 Через полчаса, так и не успев взять свою вечернюю пайку, Рогов получил увольнительную на срок «по усмотрению» и в придачу автоматчика с веселёнькими глазками, русокудрого, с косой поперечной складочкой над переносицей. Такой в тебя стрельнет и сплюнуть позабудет.
Через полчаса, так и не успев взять свою вечернюю пайку, Рогов получил увольнительную на срок «по усмотрению» и в придачу автоматчика с веселёнькими глазками, русокудрого, с косой поперечной складочкой над переносицей. Такой в тебя стрельнет и сплюнуть позабудет.
Но Кузьма Кузьмич всё же успел тогда провести с Роговым профилактическую беседу. И с автоматчиком тоже. Рогову сказал: «Тебя какой-то академик, какой-то депутат позвал. Есть распоряжение из центра: не препятствовать. Иди, если для государства нужно. Будешь спорить с академиком – лично не оскорбляй. Не дай бог пожалуется, хлопот с тобой не оберёшься». И повернулся к русокудрому автоматчику: «Проведи за вахту, а к дому свиданий не приближайся… Поваляешься на пригорке, сколько душа пожелает. Вот и вся моя инструкция».
Дом свиданий – из дощечек «в ёлочку». Это уже во внешней производственной зоне. Где-то за тучами всё медлило садиться солнце. В горе, в жухлой разреженной пихтовой прозелени, наверное, у вольнонаемных, одиноко вспискивала гармошка.
…В передней комнатке столик посредине, пёстрая штапельная скатёрка на нём, и на скатёрке глиняный кувшин с цветами из раскрашенной деревянной стружки…
Двери уже раскрылись, и в них встал высокий седоусый человек. Глаз его в вечернем блеклом свете сразу-то не различишь, но во внимательном прихмуре бровей что-то такое знакомое… Значит, уже академик и депутат Верховного, как сказал с уважительной дрожью в голосе Кузьма Кузьмич.
– Здравствуйте, гражданин депутат…
– Не юродствуйте, Павел Гордеевич…
Скупой приглашающий жест.
На сантименты у начальника геолого- и геофизической партии ни малейшей минуты. А вот в этом термосе самый натуральный кофе, в самой Москве-матушке братый по четыре тридцать за сто граммов. Только что заварен по всем восточным правилам. Извольте...
Рогов спрятал ноги в грязных тяжёлых ботинках под табуретку.
– Спасибо, Василий Пантелеевич…
– Не забыли имя-отчество?
– Читал недавно вашу статью в «Записках отделения Академии»…
– О Васюганье?
– Задорная.
– А по существу?..
– Да не с того конца вы начинаете. Даже непонятно… Одни эмоции, ахи и вздохи. Надо же доказывать, а не просто раззадоривать.
– Мальчишество?.. Пейте кофе!
– Спасибо. Пью. Почему мальчишество… Надо же доказательно, а у вас…
– Недоказательно. В данной статейке… А если в знаменателе все исследования по Западно-Сибирской, если в знаменателе вся твоя жизнь?..
– Надо, чтобы доказательно. В каждом шаге.
Рогов допил кофе, отставил пластмассовую чашечку.
– Слушаю вас, Василий Пантелеевич…
– Слушаю!.. – взорвался академик, вскочил, метнулся к оконцу, отдёрнул блеклую занавесочку. – Он меня слушает, видите ли…
Остановился. В оконном проёме – плечи вислые, стариковские, спина широченная, прямая, лопатки под рубахой, как две семивершковые доски.
– Он меня слушает…
– Мне можно уйти, гражданин депутат?
– Сидеть!
Потом Скитский присел рядом, положил ладонь на руку Рогова.
– Здоровье-то как?
– А что сделается со здоровьем! Будто всегда всё дело только в здоровье…
– Да это понятно… – обиженно отмахнулся Скитский: всё это лишние, побочные слова, без соображения. – Я о чём и для чего… Помнит ли Рогов свою статейку в академическом выпуске «Геологии»? Об этом месторождении…
– За разглашение этого мне, при всех прочих условиях, добавили пять лет.
– Ага…
– Могу поручиться: столь мягкая добавка – только следствие недостаточных улик о связях с иностранной разведкой. Сам-то я за всё остальное не очень ручаюсь…
– За что именно?
– За соображения, разумеется, которые в статейке. Ведь в чём главное, Василий Пантелеевич… – Рогов одним взмахом расчистил площадку на клеёнчатом столе. – Вот посмотрите! Все главные остаточные выносы из этих трёх речушек… Я же сюда четыре года ходил, ведь тогда всё государство напрягало жилы в поисках наиболее богатых, выгодных месторождений. А тут, по сказкам, по легендам, по свидетельствам, вымирали целые племена, а потом – целые лагеря заключенных, во главе с командованием… Белокровие.
Скитский приподнял узкую ладонь, словно попросил к чему-то далёкому прислушаться. Потом скупо сообщил, что выпросил Рогова – сам факт весьма обнадёживающий – выпросил к себе на весь летний сезон.
– Давай проведём мы партию вот по этим трём главнейшим направлениям. Так ведь у вас, горняков, говорится?.. Силёнки у меня на исходе, но я счастлив буду, Павел Гордеевич. Должно получиться!
– Василий Пантелеевич, ты будто меня агитируешь…
– Оправдываюсь. И не каюсь, что оправдываюсь. Пойдёшь в партию моим личным консультантом. Но есть штатные расписания. По штатному расписанию, ты пойдёшь как старший рабочий. Наберёшь из лагеря десяток-полтора, которые понадёжнее…
– Надёжных нет, начиная с меня…
– Вот начиная с тебя – десяточек. Остальные в партии – двадцать шесть и одна.
– Неужели интересная?
– Как я могу иметь суждение… Суждение имеет мой помощник по хозяйству. Глаз с ней не спускает.
Потом они прошли через переднюю комнату, мимо цветов из стружек, и сидели на тёмном крыльце.. Туманы в этих горах падают рано, сразу после солнцезахода. Крыльцо было влажным.
Рогов смастерил самокрутку и потом сообщил своему административному и научному руководителю, что есть здесь в зоне один тип. У него за плечами тридцать четыре ограбленных храма различных вероисповеданий, но больше православных. В розницу: католических – два, одна синагога, в последний раз на буддийской вере погорел.
– А что?.. – Скитский пожал плечами. – Никаких синагог или буддийских смолокурен у нас в экспедиции не имеется. Человеку не на чем будет свихнуться…
Тень от пихтовой горки давно уже закрыла узкий распадок. Туман отстоялся. Где-то далеко внизу перекликались люди на реке. А может, это только чудилось, что люди. Может, это так умеет молчать вечерняя тайга?
– Три сезона пробыли на Васюганье. Гипотез – полон короб, а результатов… В этих болотах всю Европу утопить можно, по самую маковку… Эта утопическая мысль не моя, на авторство не претендую. Есть такой писатель в Сибири: Кожевников Савва. «Войны и мира» не написал. Он сам – война и мир. Добрый человечище. Помоложе меня, но уже староват… А всё ходит и ходит по земле. Это когда мы с ним тонули на Васюганье и гнус из нас душу вынимал, он мне сказал тогда про Европу. Со зла, наверное…
…На ближнем пригорке что-то зашевелилось. Автоматчик. А Скитский про это не мог знать. И продолжал.
– Значит, в пять утра трогаемся. Не знаю… Сидел в последний раз при кратковременном Колчаке, потому и не знаю всех установлений и правил… Знаю свои права. Можете ночевать здесь.
Рогов поднялся. И русоголовый автоматчик на пригорке тоже поднялся. Нельзя ему ночевать вне зоны…
Значит, трёхмесячная экспедиция к истоку трёх безымянных рек.
Скитский медленно поднял голову.
– Сколько тебе, Павел Гордеевич?
– Сколько советской власти.
– Ты во всё веришь?
– Даже в начальника моего лагеря.
– Спокойной ночи…
В блоке, у входа, глянув на дневального, чтобы не беспокоился, Рогов прошёл между нарами, почти вслепую нащупал ноги Коняка. А тот сидел. Не спал.
– Вот какое расписание, – сказал Рогов. – Я тут пометил несколько имён, остальных сам подбери. Вставай и формируйся. А я немного вздремну. За неисполнение буду…
На него смотрели бессонные, бесстыжие глаза Коняка. Конечно же, все десять гавриков будут к утру как штык!
Шли тогда к верхнему семикилометровому порогу без малого две недели. Скитский здорово уставал. Да и все тоже. Коняк ныл: «Я же на советскую власть ни одного дня за всю талантливую жизнь не работал, это же сплошная каторга». Скитский спрашивал у Рогова: «Привал?» Рогов говорил: «Тут три гольца надо одолеть… Через пять часов, не раньше… А может, раньше…». Раньше почти никогда не получалось.
Потом на Рогова всё чаще стал покрикивать зампохоз партии, кандидат наук: эй ты да эй ты!.. Они как-то первыми одолели булыжистый перекат, присели под тоненькой пихтой. Полукилометровая цепочка партии двигалась где-то ещё за тем мысочком. Замнач и кандидат наук сказал: «Всё твоё поведение, зэк…»
Потом, когда Рогов выпустил его сытое горло из своих пальцев, продолжал речь, как после обыкновенного перерыва на обыкновенном совещании:
– Вся беда в том, Павел Гордеевич, что мы элементарно не можем договориться… Ну, кто же не понимает, что эта «икспидиция» – последнее мероприятие в жизни нашего уважаемого, бесконечно уважаемого… Но мероприятие сорвалось. Ничего такого, что бы, как уксусная эссенция, ударило в нос, не предвидится…
Конная цепочка партии постепенно вытягивалась из дальних ивняковых зарослей. Рогов различил: Коняк, как обыкновенно, чуть в сторонке, страхует цепочку лошадей со стороны пенистой стремнины. Дурак. Ему бы взять первую лошадёнку за поводья – и вся страховка.
И почему-то тогда впервые увиделось, различилось так противно рядышком это умное, гладкое молодое лицо. Тут совершенно ни за что нельзя было зацепиться. Просто не за что.
– Вчерашней ночью… – начал Рогов.
– А… а… – облегчённо задышал замнач. – Так это же всё твои зэки, разве ж так можно?.. Я иду в палатку Любы, я имею право ходить, в какую палатку мне требуется…
– И в позапрошлую ночь ты туда пытался войти.
– Именно. А какая-то стерва…
– У этой стервы на совести убийство. Из ревности.
– Боже праведный, и на кой чёрт я во всё это влип!
– Ты ещё не влип, а можешь. Из девяти моих подчинённых – девять бандиты. И, как это ни парадоксально, для каждого из них женщина…
Этот далеко уже не парень откровенно расхохотался.
– Милый ты человек, так она великолепная девочка, только без царя в голове. А душа нараспашку. И страшная неумеха. И между нами ничего такого… Готовится в консерваторию, её данные – лёгонький жанр. Повторяю: между нами ничего такого…
Разговор был петушиный, он быстро наскучил Рогову, пришлось закончить не очень ласковыми словами.
– Не приставай к Любе…
– Сам прицеливаешься?
– …Могу ведь нечаянно убить и схлопочу дополнительный срок.
Рогов поднялся навстречу караван-баше во образе заросшего злой щетиной Коняка.
Весь этот день не заладился. С утра такой туман, хоть пальцем его протыкай. Потом утопили два вьюка, а когда выловили и распаковали для просушки, оказалось, что их вообще незачем было выволакивать на такую горную верхотуру и выматывать который день драгоценную лошадиную силу.
Потом, уже после разговора с замначпохозом, Рогов услышал позади хлопок пистолетного выстрела. Это ещё что за хулиганство? Поставил своего ленивого мерина на дыбки, развернул его на задних копытах. И в тот момент опять ударил пистолетный выстрел. Рогову показали в сторону скалистого обреза. Под скалой стоял рядом со своей монголистой лошадёнкой Скитский.
– Смотреть надо!.. – зашипел он беззубо на Рогова. – Вы не имеете права быть на этой земле ни кучером, ни верхоглядом… Как вы могли пройти мимо этих кварцевых выходов?
Рогов кивнул. Потом понял. Глянул на приборчик Гейгера в каменно-неподвижных руках Скитского и – понял.
– Великолепное обнажение: со всеми характерными признаками. Ве-еликолепное обнажение!
– Тише вы, песнопевец… – нахмурился Скитский и малоприметным движением спрятал в карман счётчик. – Ничего тут особенного не произошло. Стрелял сглузду: медведь почудился, мне медведи с детства чудятся…
Последние слова адресовались не в пространство, а замначпохозу. Тот подъезжал, выколачивая скорость из лошадёнки каблуками добротных яловых сапог.
– Что случилось, Василий Пантелеевич? Сразу-то не мог подскочить, там эти зэки опять забарахлили…
Глаза его, небольшие, чёрненькие, узко поставленные, в несколько мгновений осмотрели рыжую высоченную скалу, Скитского, потом Рогова, потом что-то подозрительное по-за их спинами.
Скитский, напружинив шею в широком воротнике линялой куртки, вставил левую ногу в стремя, коромыслом перенёс через крестец савраски правую и молодцевато плюхнулся в седло.
– Вот и хотелось посоветоваться, Павел Гордеевич… – начал он, но тут же повернулся к замначпохозу. – Ничего особенного не произошло. Обучал бывшего комбата стрельбе из личного оружия… Ведите партию до Матёрого переката – там должен быть Ольховый остров, если сквозь землю не провалился… Ночёвка и днёвка может быть.
…К Ольховому добрались поздно.
Пошумливала река на перекатах. Гнус вот уже который вечер не беспокоил. Остался где-то далеко внизу, в заболоченных поймах. В эти места и ещё выше – к самым снежникам – в июльскую пору поднималась всякая безобидная млекопитающая живность – козы, изюбры, сохатые. Понизу-то, как вот здесь, травостой великаний – тронь только любой стебелёк, так соком и окатит. А повыше, на альпийских лугах – спокойная сытость и небо. Как в глазах у этой смешливой и в чем-то грустной Любоньки… Это уж оттого, как такой свет повернёшь – в сторону ли утренней или вечерней зорьки.
Плечи оттягивает рюкзак с образцами. Их не так уж много, но они бесконечно важны для Скитского, чья спина мерно покачивается впереди в седле, и для всего, чем дышит твоё лицо, руки. Может, и для этой вот узенькой вечерней зорьки на западе.
Вот расслюнявился! Как пятиклассник…
Ольховый открылся сразу, с небольшого перевальца. И слава богу, а то хоть слезай и веди лошадей в поводу. Ольховый лежал как раз на стрелке, где река распадалась на два рукава, а впереди, километрах в пятнадцати, поднимались молчаливые величественные Два Зуба. А между ними, где-то в лиловом сиянии, бледная тень Главного. И показалось: оттуда, как с необжитой планеты, потянуло холодком…
…Палатку начальника партии замначпохоз поставил – хватило же догадки!? – удивительно превосходно. На отлёте, под скалой, у левого рукава реки. Талантливый кандидат… Ему ведь нужно было самостоятельно на стоянке распоряжаться!. И на кой ему дьявол сдался начальник экспедиции, который будет бурчать и урчать со своих академических высот, а сам ничего не соображает в жизни, в хождении человеческом по земле…
Рогов приметил где-то между ближними кострами маленькую фигурку Любы, даже будто бы услышал её голос. Это почудилось, потому что он ждал этого голоса – высокого, с простудной хрипотцой.
Он услышал другой голос – требовательный окрик Скитского:
– Как там рация? Радиста через полчаса ко мне! Руководитель рабочей силы – со мной…
Вот и все распоряжения. А руководитель рабочей силы – это сам Рогов. Зэк.
Съев по миске горошницы, бездельно лежали ногами к реке, головами к палатке.
Река грохотала, но все равно тихо стало, сама тишина проглядывалась за всем этим грохотом.
Над отмелью, на сотни метров вверх – непролазная кустарниковая кипень, ещё выше – пихтарник, а ещё выше… Кто его знает, что там ещё выше – может, само вечернее небо, может, всё тот же пихтарник, сосняк или косматые молчаливые кедры. Вокруг тихо стояли вековечные горы, слышался плеск воды о прибрежные камни. Зябкая сырость с реки, медные отсветы костра на изломах песчаника.
Рогов закидывает руки за голову, сильно, нетерпеливо вытягивается. И видит вдруг совсем близко, над самой своей головой, крупные звёзды. Теперь, в успокоенный вечерний час, ни единой тучки на пробитом звёздами горном небе.
Полчаса назад радист передал Скитскому радиограмму – карандашные каракули на тетрадном листке: «Завтра около пятнадцати квадрате пять мельница. Возвращайтесь образцами. Поздравляем. Экспедиции вернуться руководством замначпохоз».
Разочка два Скитский прочитал радиоприказ, двигая рыжими кустиками бровей.
– Пещера Лейхт-вейса и сорок бочек арестантов… Такая страшенная таинственность! Не проще ли: вместо «квадрат пять» – Лысый перевал, вместо «мельницы» – вертолёт… А чёрт его знает, может, и правильно…
До Лысого перевала километров десять. В пять утра должны тронуться. Дальше партия двинется в низовья раздельно – имущество и штат по старой горной тропе, а рабочая группа Рогова…
– Тоска! – проворчал Скитский.
Рогов понял, но как-то по-мальчишески подзадорил:
– Какая же тоска, Василий Пантелеевич? Успех же полный.
Скитский кивнул.
…Река грохотала. Впрочем, какая же это река?! Всамделишная река обрастает всамделишными берегами, крутыми там или равнинными, а тут такая коловерть, чёрт ногу сломает. На десятикилометровом поймище, в самых разных направлениях, воды то стремглав падают с камня на камень, то стоят как зелёные озёра, то чуть ли не пятятся в десятках проток. И это – река?..
Но река грохотала, ломала камни, и стояли над нею близкие северные звёзды.
Скитский длинно потянулся, двинул ногами плитняк и чуть ли не достал пятками до воды.
– А я даже статьи не знаю… твоей… За что тебя?
– Статьи никогда ничего не объясняли, статьи только предполагают… Представьте себе массовое убийство со злым, карьеристским умыслом. Убийство чуть ли не всех твоих близких, убийство всех твоих надежд!..
Эти последние слова Рогов почти выкрикнул, ему мешал спокойно выговаривать слова грохот реки.
– Чушь собачья…
Был виден только задранный к звёздам острый подбородок Скитского.
– Что же это было: ординарный выброс газа, и его даже предусмотреть нельзя было?..
Рогов видит, как от костра поднимается Коняк, берёт лёгкий охотничий топорик и идёт в сумерки по звонкой прибрежной гальке.
– Предусмотреть нельзя было, – говорит Рогов и даже, не замечая, сжимает тяжёлые кулаки. – Если бы можно было предусмотреть, Василий Пантелеевич!..
– Но зачем вы рванулись тогда полевой выработкой к этой далёкой угольной свите?
– Надо было, Василий Пантелеевич. Надо.
– Надо…
Скитский смотрит вслед ушедшему Коняку и задумчиво роняет:
– Не очень словоохотлив.
– Коняк-то? – откликается Рогов. – Не очень. У него специальность такая пожизненная – бандит. Сел напрочно ещё на одиннадцатом году революции и вот с тех пор утюжит нары пересыльных тюрем и лагерей… Эх, мне бы в руки все эти лагеря и тюрьмы, всю эту паршу… Мне бы их в руки на денёк! Но бодливой скотине боженька…
– Так у нас и не получается разговора, Павел Гордеевич.
– Вы что же имеете в виду?
– И сам не знаю… Тоска.
– Не тоскуйте. То, что вы сделали в этой экспедиции, вот этот рюкзачок у вас под боком… Это, знаете…
– А как же вы этого отважились взять с собой…
– Коняка? Да так же, как и вы меня исхлопотали…
– Павел Гордеевич!
– Извините, Василий Пантелеевич… Десять лет, которые у меня ещё впереди, – это десять лет. Я с этим не согласен. Эти годы и для себя, и для людей я могу прожить лучше…
– Вот я и возьмусь сейчас за это. Удача наша нынешняя мне будет таким костылём!..
– Не вздумайте, Василий Пантелеевич! И тут никакое не самолюбие. Это достоинство солдатское, человеческое. Мерзко верить в несправедливость жизни, если даже несправедливость совершается рядом с тобой, над самим тобой… Схоластикой мы сейчас занимаемся.
Вернулся Коняк, бросил охапку сушняка у поблекшего костра. И тогда поднялся Рогов.
– Поостерегись… – сказал ему вслед Коняк.
– Не ходили бы, Павел Гордеевич… – неохотно подал голос и Скитский.
– Да ладно вам… – отмахнулся Рогов и пошёл по отсыревшему плитняку.
Река грохотала. Сеялся звёздный свет. Пахло отцветающей смородиной, и попискивали одинокие озябшие комары.
В жизни всё главное. И всё правильно, если ты идёшь, идёшь – и не разучился ступать по кочкастой, по каменистой дороге. Ты можешь даже остановиться. Вот так. И дохнёт тебе в лицо туманным ветерком, и захочется тебе вдруг запеть, захочется заплакать молча, бесстыдно заплакать – и быть счастливым.
Вчера на дневном коротком привале они лежали поодаль друг от друга, чтобы не разговаривать. Скитский нюхал камешки, что-то неразборчивое проборматывал, утыкался носом в карту-двухкилометровку. Рогов прислушивался к голосам со всего привалища, ловил глазами, щекой, затылком упругие, жаркие солнечные лучи, давил оводов на открытых руках. Тело изнывало от холодноватой зябкой силы. Только что искупался под тяжёлым водопадным ливнем.
Подошла Люба. Заметно прихрамывала, пока поднималась на взгорок.
Прилегла. Посветила на Рогова чистыми, враспашку, глазами. Хотела она повторить опыт Рогова…
– Инженера Рогова! – Рогов сжал челюсти.
– Инженера… товарища Рогова… Хотела искупаться под тем же водопадом… Сумасшествие! Температура – почти минус. Для сумасшедших… А когда выбиралась из котлована – с ногой что-то…
И вытянула правую ногу.
Скитский встал, крякнул и, деловито, хозяйственно оглядываясь, пошёл к ближайшему костру.
Пока Рогов ощупывал лодыжку девчонки да пока она ойкала и всё смотрела, смотрела Рогову прямо в переносицу – бог дал, выпал из девственных кущ замначпохоз.
– Люба, нужна же немедленная квалифицированная…
Уголки губ Любы зло приподнялись.
– Немедленная, квалифицированная сейчас и производится… Ой!
– Это знахарство!
- Отстаньте, Анатолий… Ой!
– Всё. – Рогов опустил ногу девчонки. – Погрейте у костра. Пешее хождение на ближайшие сутки воспрещается… Рекомендуется рикша из Шанхая, венецианский паланкин или белый слон царя Соломона. Другой транспорт также рекомендуется, в том числе замначпохоз, Анатолием именуемый и кандидатом наук – тоже.
Люба запрокинулась на мятый куст папоротника, засмеялась…
…Свет прибрежного костра истаял за крутой скалой.
Вот эта весенняя обрывистая промоина. Кусты смородины, малины, в руку толщиной борщевик. Отсюда видно всё ночное становище. Пахло добрым горьким дымом.
Хотел было закурить, но разве закуришь, если тебе в лицо, в ноздри дышит всем своим дремучим дыханием тайга! И хорошо, что не закурил. Совсем рядом прошёл рысьей походкой замначпохоз.
А потом пришла Люба.
Разве кому-нибудь светили в такую ночь такие бесшабашные звёзды, и плыли разве над чьими-то ещё головами такие вот Млечные Пути! Когда-нибудь разве ещё бывало так, если, чуть повернув лицо, на ощупь одними жадными пересохшими губами оборвёшь с ветки гроздь терпких недозрелых ягод!
Сердце девчонки билось часто, гулко, когда она, приподымаясь на локте, всё пыталась заглянуть ему в глаза.
– Не знала, не гадала, а ждала… И как увидела да голос услышала, да диву далась, что чуть не на руках лошадь по перекатам несёшь, и такое мне привиделось…
– Какое же…
– Как… что я смотрю в глаза в твои… И ничего не вижу… А нельзя мне с тобой в твой лагерь?
– Можно.
– А как?
- Укради, убей кого-нибудь…
– Себя!
– Тогда тебе прямой путь – на небеса. А небожителей в наших местах не принимают. И не уважают.
– Ты воевал?
– Плохо.
– Какое слово… Это ты чтобы покрасоваться.
– Ага. А какое у тебя удивительное лицо И губы… Целую, и всё мне становится голоднее… Тоска-то какая! Опять потеря… Как будто золотинка в ладони, и её может смыть водами, выдуть походя ветер…
– А ты зажми золотинку в кулаке.
Потом опять молчали. Раскачивалась глухая неласковая земля, потухали в распадке костры. Люба долго дышала ему в губы.
Ушла. И снова вернулась. Прилегла, оперлась на локоть. Погоревала: неужели вся жизнь из потерь?
– Это ты мои мысли подслушала. Нехорошо. Но о каких ты потерях? Ах, о золотинке…
– И о золотинке тоже… У нас на прииске фартом называли… Тебе не смешно?
– Грустновато… Семья приискательская?
– Не из фартовых. И у меня что-то, видно, наследственное, незадачливое… И пелось мне по-хорошему, и сказки такие наяву виделись, и влюблялась, пока, видно, тебя не нашла…
А ещё через несколько тишайших минут, когда само молчание тайги, молчание неба и шорохи в травах готовы были, казалось, взорваться молниями, Люба сказала:
– Ты знаешь, я так хотела быть счастливой – по-девчоночьи, чтобы ослепнуть, задохнуться. Но больше быть счастливой, больше этого не смогу… На большее у меня сердца не хватит. Дай мне руки… Обе.
И долго дышала ему в ладони, вжимала в ладони губы, лоб, щёки.
Он сказал, жалеючи все предбудущие дни и надеясь на них:
– Встретишь ещё, Любовь Андреевна, своего громовержца…
– Ты так легко со мной расстаёшься?
– Я не расстаюсь. Это было бы невозможно. Это только словам легко. А теперь дай мне твои руки, Люба…
Он вернулся к палатке. Весело потрескивал костёр. У костра сидел Коняк – неподвижно, как каменное скифское изваяние.
Не спал Скитский. Подтянул к себе старинный рыжий саквояж, рассупонил его, щёлкнул полдюжиной никелированных застёжек, извлёк из таинственных глубин бутылку, постучал ногтем: «Хванчкара. А интерпелляции в парламенте последуют на следующей неделе…».
Рогов кивнул. Хванчкара – штука преотличная, памятник этим виноделам нужно поставить. Скитский хмыкнул, старательно ввинчивая штопор в пробку.
Рогов подержал в пальцах прохладный алюминиевый стаканчик. Но, ещё не пригубив, он уже вспомнил вкус этого вина. И вспомнил: ладони Любы пахли смородинным листом, борщевиком, цветами марьиных кореньев. И смоляным дымом костров, у которых ей довелось побывать, – у которых ей, наверное, нужно было побывать, как каждому из нас, у своего жданного счастья. Потом-то оно дымом исходит, это счастье, – горьковатым, смоляным, кизячным…
Всё очень простенько на следующий день образовалось. До двенадцати дня сумели пройти десять километров гольцов до самого Лысого перевала. Птица-мельница уже сидела на ровном месте, скособочившись, чуть ли не касаясь одной своей лопастью малинового бурьяна. Экипаж из двух замухрыженных работой, жарой, паутами лётчиков хлопотал вокруг птицы. Стали её выправлять, ставить центром её нутра точно к центру Земли… А если всё вокруг с древнейших геологических эпох скособочилось? Установили вертолёт, посмотрели со стороны: вроде бы ничего.
– Ничего-то ничего, – сказал курносый вертолётчик. – А хрен его знает. У меня всё же груз: академик и все протчие принадлежности… А вот та девчонка конопатая – она кто? Чего она глаза на академика так лупит?
Замначпохоз всерьёз забеспокоился:
– Товарищ лётчик! Товарищ!.. Это очень ответственно, время истекает, заводите свой движок…
Лётчик ходил вокруг гоголем, покрикивал на своего помощника, который, по его мнению, «пренебрегал то тем, то этим».
Скитский крякал, как селезень, пока утрясался всем своим угловатым естеством в кресле вертолета. Морщился, посылал какие-то знаки глазами Рогову, потом несколько раз сделал жест летчику: давай-давай!
А лётчик притянул к себе за рукав Рогова:
– Слушай, дяденька, я думал эта, с носиком в небо, на академика, а она, оказывается, на тебя… Не в этом вопрос. Тут, слышал, вы такое нащупали: если гробанусь с академиком и образцами – к смертной казни, а то и чего-нибудь пострашнее придумают. Все под Богом ходим… Не в этом вопрос. Говорили, что тут у вас, в партии этой, какой-то выдающийся инженер. Заключённый… Он, говорят, до того эксперименты свои горные довёл – каторгу заработал… Да чего ты пихаешься?… Санька! Заводи!.
…Чихала, чихала машина-мельница и потом плавно, царственно взмыла в небо.
А когда караван партии уже вытянулся вниз по извилистой тропе, Рогов, сидя на солнечном припёке, внимательно выслушивал Коняка: до границы тут рукой подать, а чуть правее – Синьцзян, а там Афганистан, и они абсолютно обеспечены, а прокормиться – так это раз плюнуть… И это не измена родине. За такую мыслю позволено любому чину глотку порвать. Не-ет, тут главное – выгода во времени… Со стороны посмотреть на родину… Главное – безопасно, и можно нос наставить Кузьме Кузьмичу. Вот бы!.. А прокормиться – раз плюнуть…
Рогов понимал: человек паясничает. Как всю свою незадачливую жизнь.
…На крутом повороте, где тропа уходила вправо, конный караван что-то замешкался. Остановился. Девять зэков сидели вокруг Рогова. Казалось: не дышали. От каравана отделилась малюхонькая фигурка и стала ползти, взбираться вверх по тропе. Рогов поднялся в самую последнюю минуту. Лицо у Любы искусано оводом, нос распух, глаза такие рассчастливые.
– Дурак ты, Рогов… – сказала она. – Дай я ещё разок подышу тобой… И не смотри на меня. Я такая некрасивая, потому что счастливая…
Зэки позади них сидели и не дышали.
Но в сторону Любы и Рогова они не смотрели. Это запрещалось.
И Люба сказала ему:
– Ладно, ты прости, что горе такое тебе причинила… или… не знаю, как сказать иначе… Была у тебя целый месяц девчонка. Верная. Надо бы ей умереть на этой земле. Не хочется умирать. Вот я и ухожу. Ты помни. Ты не хмурься и не смейся. Ты помни. Ладно? Вот сейчас пойду вниз по тропе, а ты смотри на меня.
– Я тебе главное не сказал…
– Тогда я буду ждать, когда ты скажешь главное.
И пошла. И как она завещала, Рогов смотрел на неё, пока она тонула в июльских душных травах.
А потом ему надо было идти почти полтораста километров…
…На предложение Коняка посмотреть на родину со стороны Рогов тогда не ответил. Да и как ответишь!.. Они шли трое суток. Рогову надо было добраться до самого устья реки. Он считал, что они со Скитским что-то очень важное проглядели: не может быть, чтобы его так обмануло – не чутьё, а знание Земли. Он знал, знает Землю. Значит, что-то они важное проглядели. Кроме того, что нашли… Тут как раз до границы оставалось всего ничего – два-три дня.
Схлопотали под вечер в омутке приличного тайменя. Сотворили ужин. Поели вполсыта. Курить давным-давно позабыли.
Расположились на безлесом взгорочке, неподалеку от колодного ручья. Это по команде Рогова: чтобы землю было видно и вот те лиловые впадины, по которым уходит на север поисковая партия Скитского. А сам академик – ого-го! Он где-то там, вон за той малиновой зорькой. На западе. В цивилизованной полосе. А тут вот надо немного нецивилизованно поговорить…
Рогов сказал: покурить достанем завтра к полдню. А насчет того, чтобы немного со стороны посмотреть на Родину… Ручным способом он здесь никого убивать не будет. Это неприлично. Но он хотел, чтобы у него под рукой был батальон бандитов, и он повёл бы их в разведку боем на пушечные стволы врага. Как под Ленковицей Старой. Может быть, кому-нибудь не ясно?
Оказалось, что всем и всё яснее ясного. Оказалось, что им смотреть на эту вот свою землю с какой-то иностранной стороны – да пропади пропадом… На этом и порешили.
Рогов накрылся жёсткой плащ-палаткой. Под брезентом скоро стало тепло. Плащ-палатку Люба оставила.
Утром откинул угол плащ-палатки, увидел у потухшего костра Коняка – красные от бессонницы глаза.
– Умучил ты меня… – сказал Коняк. – Напоперёк жизни ты мне вчера стал… А рука во всю ночь не поднялась… Душа из меня вся вышла…
Рогов разделся до трусов, потянулся, спросил:
– А она у тебя когда была – душа? Пошли умываться! Всем – умываться… Ну!
И это «ну» могло дорого обойтись Рогову. Коняк от бессонницы, что ли, или от каких-то своих тайных дум и опасений вдруг взбесился. Он сделал великолепный тигриный прыжок. Не встретив в заданном месте Рогова, угодил руками в затухающий костёр. И взвыл.
Он был просто нецивилизованным псом – этот Коняк, каторжник. Самому же Рогову пришлось перевязывать его в волдырях бездельные бандитские ручищи и слушать, как он скрипит своими крупными снежной белизны зубами.
А остальные? Они посиживали в сторонке, совсем как волчья стая. Им важно было: кто возьмёт верх в этом коротком поединке, а там они бы уже проголосовали.
Рогов сходил к ручью. Умышленно медленно оделся, выпил кружку подогретой на углях воды, засунул её в вещмешок. Распорядился: «Шагом-арш!»
Восемь чуть не одичавших на воле архаровцев лениво поднялись, стали лениво прилаживать за плечи груз.
Коняк сидел, глаза его были безразлично стылыми, ничего не выражающими. И только после окрика Рогова: «Вздевай мешок на плечи!» – он покривился, шевельнул перебинтованными кистями рук: «Слышь, Гордеич, может, мне скидку на… производственную травму?»
Рогов было обозлился, но тут, нечаянно глянув на зелёные горы, на погожее солнце, сказал рассудительно, как за чашкой чая:
– Я не Верховный суд. Скидок не будет. Потащишь всё, что ни взвалю, чтобы душа из тебя винтом вывинчивалась. Очень уж ты на свою душу жаловался. На кой чёрт при такой душе состоять всю жизнь.
И к остальным:
– Кто вильнёт в сторону, буду идти по следу всю жизнь. В самой древней старости достигну – и убью… Пойдете за мной след в след!
На одном из многочисленных привалов в этом многодневном хождении, когда Рогов перевязывал ему руку, Коняк спросил:
– Вернёмся – продавать будешь?
Рогов усмехнулся.
На одиннадцатый день только прибыли домой. На вахте произвели досмотр, поместили в карантин, всё честь честью...
Задержались они всего на шесть дней, и были высланы за ними два поисковых отряда.
– Ты знаешь, во что может обойтись государству этот поиск двумя отрядами? – ледяным тоном спросил Рогова Кузьма Кузьмич.
Рогов примирительно, почти лучезарно разулыбался. Во что это может обойтись государству, он не знает, так как не имеет доступа к лагерной бухгалтерии. А вот во что это может обойтись тебе, Кузьма Кузьмич… Никогда не слышал, чтобы в рублях оценивали самые строгие выговоры.
Когда-то в боях под Ржевом Кузьмич был старшиной в одной из рот роговского батальона. Тяжёлое ранение выбило из строя. Левая рука бывшего старшины, а теперь капитана внутренней службы, накрепко прижата к груди. Будто он вот-вот готов броситься в атаку. А какие тут атаки?..
Встретил он Рогова в ту горькую осень, как встречают люди самую свою великую беду. Рогов видел, как худощавое, совсем ещё молодое лицо капитана мертвенно зеленеет. Потом, вытянувшись, сдвинув каблуки начищенных сапог, повелительно протянул правую руку к оперативному работнику: «Дело! Выйди…». Рогову сказал: «Садись, Гордеич…». Долго он листал это дело. И опять перелистывал. Поднял глаза на Рогова: «Так как же это случилось, Гордеич? – «Как обозначено в документах. Сам видишь». – «Вот встреча…» – «А у тебя жизнь в этой должности какая… вообще?.. Разрешите идти, гражданин начальник?» , Но стоило Рогову заложить руки за спину и повернуться к выходу, как начальник лагеря попросил: «Гордеич, знаешь, как я буду теперь чувствовать себя?… Да, неплохо мы тогда сходили в атаку под Ржевом!»
И вот теперь, после возвращения Рогова из экспедиции, вопрос Кузьмы Кузьмича и ответ на него тоже были своего рода воспоминанием. И вопрос, и ответ можно было бы пересказать словами не такими уж бухгалтерскими: «Чуть было веру в тебя, комбат, не растерял… Служба». А ответ Рогова: «Стоит ли тогда нам жить под одним небом, старшина?»
Коняк два месяца пробыл в стационаре, избавлялся от последствий «производственной травмы». Писал Рогову на листочках в косую линейку чуть ли не любовные послания, обзывал его всякими нехорошими словами и требовал явиться пред свои ясные очи. Рогов не отвечал и не являлся…
Что было делать с памятью? А что он мог с этой памятью поделать, если она выстраивала перед ним ночами длиннющие вереницы несбывшихся упований и непреднамеренных потерь. Никакого дьявола с этой памятью нельзя было сотворить. Нельзя было захлопнуть, как дверь в чужую неустроенную квартиру. Вот что.
От Любы приходили писульки. «Что-то со мной неладное творится, мой любимый, мой заключённый. Что-то неладное». Это она писала уже из Москвы. «Конкурсные в консерваторию выдержала. Но что со мною будет, что будет, если в себе я такое чувствую. Не поймёшь ты этого, далекий…».
Но что бы она такое «в себе» чувствовала… чего бы он не мог понять?.. Главное. И понимать-то будто нечего. Нечего, если зловредная память сохрагила на веки вечные её ладони, запах в ладонях от живого смородинового листа, от борщевика, от марьиных кореньев… Какое-то одно, самое заветное и самое бесхитростное слово Рогов стеснялся даже самому себе произнести. Потом надо будет обязательно со всем этим дотошно разобраться….
Кузьма Кузьмич вывел Рогова из лесосеки и назначил начальником шахты-штольни с плановой добычей две тонны в сутки. Большего для лагеря не требовалось.
Рогов назвал шахту «Люба». У него в подчинении было три рабочих единицы: он сам, как маркшейдер и забойщик-крепилыцик, ещё один молчаливый, с весёлыми глазками зэк из шорцев, с удивительной фамилией Арцыбашев, а по имени Ваня, и еще савраска-недомерок по имени Полёт.
Полёт потому, что как-то гробанулся с пятиметрового речного откоса и остался живой. Когда не надо – старательный, работящий, когда требовалось работать – уросливый, кусачий, савраска – кругленький, сытенький – был настоящей утехой. С ним можно было даже разговаривать, и он почти всё понимал. Понимал, когда от него требовали натянуть постромки и волочить трехсоткилограммовую вагонетку к устью. Но он как раз делал вид, что срочно засыпает, и тут уж никакие самые нечеловеческие силы ничего с ним не могли поделать.
Штат невелик, но большего, если иметь в виду рентабельность производства, и не требовалось.
Правда, потом пришлось всё же нарушить штатное расписание. Пристал Коняк, не работавший в лагерях больше тридцати лет, даже в отхожее место ходивший с тяжёлыми руками за спиной.
– Возьми, инженер… – не глядя на Рогова, ронял он свои изустные заявления. – Копать уголь – самая чёрная работа на земле. Так говорят. Давай испробую. А там, глядишь… лиха беда начало.
Кто-то из верховодов лагерных вознамерился было устроить Коняку «тёмную» за предательство. Но вскорости один из верховодов утром не проснулся. Спал, как все, – и не проснулся. Остальные отстали. Может, убоялись.
Рогов пошёл к Кузьме Кузьмичу.
– Отдай мне этого тунеядца.
Кузьма Кузьмич засомневался.
– А справишься? Это же самый оголтелый из оголтелых. Может, он замыслил вредительскую диверсию…
Рогов обронил безразличным тоном:
– Ты мне здесь не устраивай специально для меня санаторный режим. Я с тобой на фронте справлялся, когда ты и такие, как ты, хотели драпануть из-под Плехановки… Мне бы только на одни сутки под мою единоличную власть лагеря – всех бандитов и всех несчастных… А Коняк – что? Коняк – обыкновенное беспамятное быдло.
– А он ведь может на всё пойти… Вот этот урка не проснулся утром… Думаешь, чьих рук дело?
– При мне он ни на что не пойдёт.
Но Коняк всё же попытался кое-что повернуть на свой манер.
К тому времени, когда Коняк был принят в рабочий штат «Любы», Рогов с Ваней Арцыбашевым успели уже решительным образом реконструировать штольню. Протяжённость её в результате трудов всех предшествующих поколений зэков достигла почти двухсот метров. Пласт двухметровый, без малейших породных включений – чистый, как алмаз. Разрезали по восходящей пятнадцатиметровую лавёшку. Стали с Ваней Арцыбашевым подумывать и о вентиляции. Но какая тут вентиляция? Во всём лагере всего один вентилятор – на столе у Кузьмы Кузьмича. Да и что особенного проветривать, если на вооружении коллектива были две старые вольфовки, четыре кайлушки и до черта рабочего времени. И Полёт-савраска, всхрапывая под дощатым люком у порожней вагонетки, тоже не очень портил воздух, а когда портил, в лаве пахло конюшней, живым естеством…
Вот когда таким образом производственная жизнь на «Любе» наладилась, в забои и заявился Коняк. Он начал с разложения рабочего коллектива. Это случилось в конце июня, и тайга уже запросто могла и прокормить, и даже понежить человека. Это Коняк стал втолковывать Ване Арцыбашеву. Что тут, на самом деле-то, киснуть. Да и завалиться этот погребок может. А в тайге, только вздымись на ближнюю горку да нырни в багульник, в хвощи – там посвистывают бурундуки, там дятлы ревмя ревут, и запахи, кто умеет нюхать, и тени зелёные…
Ваня пожаловался начальнику шахты. Такие разговоры могут резко снизить производительность труда. Надо принять меры.
Начальник шахты стал меры принимать. На следующее утро бросил к ногам Коняка кайлушку, рядом поставил зажжённую вольфовку. Потом, тихонечко посвистывая, отмерил по пласту трёхметровый пай. Это тебе, «вождь», урок до вечера. Не сделаешь…
Коняк угрюмо продекламировал:
– И ты думаешь, что я…
Рогов скинул брезентовую куртку, поднял кайлушку, светильник. Он именно так и думает. Этот урок Коняк должен к вечеру сработать. Иначе…
– По конституции должен поступать?
Ещё терпения хватило ответить на это. Если по конституции, то Коняку давно уже пора гнить во сырой земле. И давно уже над ним должны выстаиваться дикие травы. Если по конституции, но в нарушение этого основного закона…
Коняк и был, видимо, силён тем, что всегда хранил про себя свою удивительную внезапную резвость. Кайлушка, которую только бросил к его ногам начальник шахты, как бумеранг австралийский, просвистела у самой головы начальника-забойщика…
Потом этот облезлый «вождь» весь день лежал в темной завальной стороне забоя и изредка жалобно охал. К вечеру Ваня Арцыбашев вывез его в пустой вагонетке на дневную поверхность. Полёт не уросил – наверное, чуял, что делом занимается самым неотложным. Ваня вывалил Коняка из вагонетки прямо на пустую породу, освободил из сбруи савраску и присел рядом с Роговым.
Сегодня план перевыполнили чуть ли не в полтора раза. Курили, пили студёную воду из ближнего ручья… Пахло травами. Солнце где-то за горой, под которой они сидели, тонуло уже в летних землях. Хлопотали вездесущие воробьи вокруг савраски. Далёкие восточные небеса выстраивали над голубыми снежниками Белогорья громады погожих облаков.
Ваня Арцыбашев кивнул в сторону Коняка: он не помрёт? Рогов раздавил каблуком окурок. Нет, этот урка не помрёт. Ему сейчас надоест разыгрывать всегдашнюю лагерную оперетку, и он пойдёт в зону ужинать. А ужинать ему сегодня не дадут. Не за что. И никто ему грамма хлебушка не даст – никто из «Красных шапочек», никто из «Польских воров», никто даже из «Опоясанных ломом». Никто. Об этом Рогов лично позаботился.
Вечером Рогова позвали в штаб.
Кузьма Кузьмич сидел в своём дощатом кабинетике. Во всю стену красовалась надпись чуть ли не старославянской вязью: «Там речей не тратить по-пустому, где нужно власть употребить». Кузьма Кузьмич был явно в расстроенных чувствах, он даже не встал навстречу Рогову, как это делал всегда.
Чему он может порадоваться за нынешний истекший день?.. Ни одного малейшего нарушения. Всё, понимаешь, как положено по уставу. Вот только на пятом квартале ребятки устроили представление. Он, капитан, кто здесь – представитель или не представитель?! А?
Рогов устало опустился на табуретку:
– Чего ты, Кузьма, рассвирепел?
Кузьма Кузьмич рассвирепел по многим причинам. На пятом квартале ребятки устроили спектакль. От трелёвочного самохода перекинули канат в развилку столетнего кедра, специалист по моторам включил лебедку, трактор сам себя тянул-тянул, приподнялся над землёй-матушкой на полтора-два метра и заглох. Вся бригада развеселилась. Расположились на траве, чифирники стали чифирить, анекдоты рассказывать. А трактор-трелёвочник висел и молчал.
Где-то на зональных границах стояли автоматчики. Пригодился с обыкновенным досмотром Кузьма Кузьмич.
– Как вы смеете? Почему?
Кто-то из весёлых зеков ответил:
– Какая это жизнь, чтобы план перевыполнять? Ни информации о международном положении, ни о древней философии. И хлеб нынче такой сырой – от него можно реки и плодородные озера делать… Вот даже железная машина сама собой повесилась. От такой жизни…
– Но всё это… человеческое… производственное… – Кузьма что-то разволновался. – А тут, понимаешь, письмо. Наверное, от той дурочки, от той коллекторши в геологической экспедиции? После экспедиции, мне, Павел свет Гордеевич, приказали всех вас засекретить. Beлика задача – засекретить! Но, если это письмо от той самой дамочки…
Рогов вырвал конвертик из рук рассуждающего Кузьмы. Толкнул автоматчика в проходной, тот было вскрикнул испуганно: «Стой, твою…».
Люба писала:
«Вот четыре года всё это продолжалось. Мне стало страшно. К счастью ли, к сожалению ли, из меня не получилась Манон Леско. Таланта не хватает. Вот что. Не думай, что я больше ничего в жизни не вижу. Вижу. Люблю. Вот беда. Кажется, по-настоящему полюбила… По-всякому, по-бабьи, по-человечески раздумывала… Тогда мне сказали, что голос у меня и что ради этого надо еще три года учиться… И как раз родилась у нас с тобой доченька. Очень слабенькая, нездоровой получилась у нас с тобой эта доченька. Сейчас она от меня далеко. Я боюсь не твоего осуждения. Нет! Господи, люди столько столетий убивают друг друга и столько тысячелетий забывают своих детей. Я никакого прощения или понимания не желаю и не хочу желать. Может, ты найдешь нашу дочь?..».
Нашу дочь!? Господи ты, боже мой, в которого я не верую! И это, наверное, хорошо, что человек живёт, живёт, а потом оказывается, что он не одинок на земле…
Рогов приходил к Кузьме Кузьмичу и утром, и вечером, на пятнадцать, двадцать минут оставляя шахту «Любу», и одними глазами требовал: почту».
Почты было много и всякой. Приходили книги от Скитского и записки, из которых можно было с трудом понять: Васюганье медленно подвигается, а министерство перекидывает рубли из ладошки в ладошку и сомневается. Впрочем, все эти слова никакого значения не имели в сравнении с несколькими тоненькими, неумело сделанными брошюрами о газоносности угольных месторождении. Статистические выкладки катастроф на польских и английских шахтах, на шахтах Франции, Бельгии, на бедненьком Рурском месторождении, даже в Силезии. Изредка, скупо, строго академически и о несчастьях на родной земле. Даже в обзорах академических, министерских это надо было делать человечнее, достойнее, мужественнее. Что же мы за люди, если боимся посмотреть правде в глаза?
И даже не про это. А вот про что. Когда-то к «Капитальной» бросились из всех густонаселенных логов бабы и ребятишки, и Рогов приказал тем ранним утром высветлить площадку-трибуну и поднялся на неё, на эту голгофу. Сказал, что горноспасатели уже пошли на Третий Восток, но он должен предупредить, что люди погибли.
Как это теперь далеко за давью дней, и как всегда больно возвращаться в эту жизнь! А возвращаться надо...
…Выстраивались вечерние, спокойные облака над Белогорьем. Рогов вернулся в зону, пришел в штаб. Кузьма Кузьмич злой встал перед Роговым.
– Да ладно тебе… – сказал Рогов. – И у меня, понимаешь, счастье-несчастье. Я, наверное, убегу…
Кузьма Кузьмич отодвинул одним пальцем письмо. На пыльном настольном стекле обозначился след. Всякие письма эти его не касаются.
– Дочь у меня! Ты понимаешь – дочь!
Начальник лагеря повёл своими усталыми глазами на настольное стекло, потом глянул на Рогова, безвольно пошевелил мятыми губами. Это какая же дочка у тебя, товарищ комбат? Я всю твою биографию, как дважды два… Это уж не из той ли засекреченной экспедиции?
Рогов медленно отодвинул каменный чернильный при6ор на середину стола, опустил широкие лопатки ладоней на край канцелярской столешницы. Он может вот сейчас, сию минутку, уйти. Встанет и уйдёт. Но ведь теперь у него ребёнок! У тебя, Кузьма, почему нет ребятишек?..
Стали высчитывать. Получилось: почти четыре года дочери. Рогов вспомнил высказывание одного немца. Этот мудрый немец говорил, что человек в возрасте трёх лет приобретает уже треть жизненного опыта. Он уже ходит, этот человек, боится огня не очень, умеет просить хлебушка и умеет уже тосковать, если нет с ним, с этим человеком, ни матери, ни отца.
Потом они по нескольку раз перечитали адрес детского дома. Адрес получился далековатый: станция Янаул, где-то между Красноуфимском и Казанью.
Кузьма выпрямился за своим конторским столом, одними глазами, молча, перечитал плакат на стене, потом сообщил Рогову: он немедленно употребит власть, данную ему… Надо связаться с этим детским домом в Янауле.
Стали снова жить, стали ждать писем из Янаула и втайне, каждый про себя, вердикта Верховного суда. Потому что всему всегда исполняются сроки. И ещё потому что нельзя быть беспечно счастливым, если точно знаешь, что в счастье твоём никто не придёт тебе на помощь.
И ещё между делом Рогов занимался воспитанием Коняка, самого начальника лагеря Кузьмы Кузьмича, ещё савраску воспитывал и сам себя. Себя было воспитывать труднее.
Стояла декабрьская зима. Запуржило горную тайгу, заволокло ледяными туманами.
В самом устье штольни дверь приладили, и в лавёшке было тепло. Коняк перевыполнял норму и готовился уже взвалить на себя трудовые обязательства. И все равно порожнего времени у него было сверх всяких возможностей. Поковыряется, помашет кайлушкой в лаве, сколько положено по пайку, а потом завлекает сказками-рассказами Ваню Арцыбашева…
Почему-то в свои тридцать четыре года так и не удалось нигде вычитать слова, которых тебе позарез не хватает. Слова об истинном счастье, истинном страдании… Может, все эти страшные в своём величии слова ещё предстоит кому-нибудь сказать, кому-то из людей воистину счастливой, по-великаньи трагической судьбы? Хотя едва ли… Может, потому, что ни истинного счастья, ни истинного страдания в чистом виде не существует…
– Ешь, чего ты…
Коняк передвигает Рогову по сырой прибрежной гальке листок лагерной газеты. Чем не скатерть-самобранка. Два ломтя тяжеленного хлеба, два кусочка варёного мяса, луковица пополам.
– Ешь… Чего ты умным-то представляешься – всего на тридцать годочков меньше меня сидел…
Умеет Коняк вот так исподтишка и так вот напрямую «заводить». Он безобиден, как бритва в умелых руках, и страшен он, как бритва в руках сумасшедшего.
– Ты сядь, что ли, под ветер… Несёт от тебя, как из погреба.
Лицо Коняка подобрело.
– Это из турнепса первач такой. Духовитый. Есть про запас пузырёк. Хочешь, инженер?
Рогов потянулся, хрустнул суставами.
– Ну тебя, Коняк, к чертям с твоим коньяком из турнепса. Знаешь, Коняк, что в жизни главное? Всё главное! Всё… Иначе что такое день, в котором ты живешь?
От облезлой, к первому мая побеленной вахты вниз, к берегу, идёт строевым шагом Кузьмич. Подтянутый, бритый, с глубокими тёмными глазницами под козырьком новенькой фуражки.
– Убивать я его сейчас не буду, – говорит Коняк. – Он меня тридцать лет воспитывал. Станешь убивать – заверещит, а с вышки полоснут из пулеавтомата да тебя, блаженного, заденут… Но я его убью. Потом. Выпей! Не хочешь? Как хочешь…
Коняк тянет из потайных глубин своих стёганых штанов плоскую алюминиевую посудину, отвинчивает пробку, запрокидывает лицо, и в который уже раз воспитательный эксперимент Рогова летит в тартарары…
Кузьмич подходит, уважительно и начальственно. Нагибается, приспосабливает под себя розоватый валун, садится, вздыхает, поглаживая колени.
И произносит совершенно необязательное:
– Опять ревматизм…
Ни Коняк, ни Рогов не откликаются. Рогов тоскливо любуется вдруг проступившими дальними горами, Коняк задыхается от ненависти.
Метрах в двадцати к самому 6epery приткнулся плоскодонный карбас. В карбасе сивая лошадёнка. На корме дым от камелька. Ветер наносит оттуда какой-то добротной едой.
– Дополнительные… эти… – сказал Кузьмич и поморщился, пересаживаясь на розоватом камне. Всё ему как-то не удавалось устроить на этом камне свои тощие ягодицы. – Распоряжения дополнительные и корреспонденция… Коняку прописка определена на руднике Центральном.
– Удумали… – Коняк ворохнулся на месте, потом замер. – Вот ещё хреновину несусветную удумали. Я ж на Центральном ещё в двадцать восьмом году свою первую церковь брал… А теперь поселяйся. Как ещё верующие посмотрят…
Кузьмич мимоходом сообщил: верующих на Центральном теперь нет. Нет в бога верующих. Коняк кивнул: тогда ладно. И церкви нет? Вот это не ладно,
А Рогову корреспонденция. Один пакет, видать, по общественной линии, другой, может, и по личной. По общественной линии – бандероль, о6надёживающе солидная, заказная, с печатным штампом. Подождёт... По личной линии – маленький конвертик, со знакомыми каллиграфическими вензелями и легкомысленными розовыми лепесточками с левого краешка. В конверте прощупывается твёрдый квадратик. Неужели же! Но на такое разрешается посмотреть только при вспышке молнии, и чтобы деревья над головой раскачивались, и земля под тобой гудела и ходуном ходила! Ох, господи, так недолго и до стихов дожить...
– Спасибо, Кузьма Кузьмич, – сказал Рогов. – Это тебе зачтётся…
–Я тебе, Рогов, говорю по службе, значит, от доброго сердца. Вообще-то личное сердце у меня нехорошее. Обозлённое у меня личное сердце. Я и говорю: чего тебе поспешать, а? Посидел бы на этом бережку денёк-другой, ну и… пришёл бы в себя. Мы бы связались с твоей шахтой, звякнули… А то как ты сейчас на люди-то? Охломон-охломоном, как любой другой рецидивист…
– Ну-ну… – угрожающе произнёс Коняк.
– Ну, не рецидивист, а просто охломон, – поправился Кузьмич. – Правильно. Но ведь ты горный инженер определенного ранга. Командир корпуса по военным-то временам!
Рогов ответил, что если об охломонах, так они в любом обличье, в любой должности одинаковы. А что касается, чтобы прийти в себя, так было уже время и времечко: и приходил в себя, и выходил. И нечего киснуть на берегах этой мутной речки ни одной лишней минуты. Скорее бы баркас отправляли…
Кузьмич расшвыривает гальки под ногами, упирается локтями в колени, устраивает в ладонях строгое задумчивое лицо.
– Карбас ведь такая посудина… Рейс нынешний – тоже. Весенний. Какой сейчас, к чертям, фарватер!.. Стукнется о какую-нибудь подводную дрянь, и…
…Как бы это глянуть в нутро маленького, по личной линии, конвертика… А что! Рогов медленно-медленно вынимает из кармана конверт; Коняк и Кузьмич, не глядя на него, всё видят, всё понимают. .
Что делать – ни молитвы нет за душой, ни крика, только будто плеснули тебе в душу кипятком, а потом будто продуло тебя ветром вон с тех заоблачных розоватых хребтов. Но, тихо!.. Что же в этом детском девчоночьем лице от Любы? И от тебя, если это твоё дитё?
Но почему: если? Как тебе, Рогов, не совестно!
Чистые раскрытые глаза на удивлённом, немного скуластом личике, полукружья чуть означенных бровей, на коротком вдохе полураскрытые губы…
Неужели всё это так вот сразу, в это мгновение может стать почти непереносимо родным?
Кузьма Кузьмич уxoдит в верх по откосу своим непоколебимо строевым шагом. Коняк что-то бубнит, навалившись грудью на корму карбаса.
Кто его знает, может, это и на самом деле беда, что вся жизнь не состоит из самых ошеломляющих неожиданностей, как вот эта, которая у него в ладонях: удивлённое детское лицо с чисто раскрытыми глазами, и оно, как гром, как лавина, входит в твою жизнь, во всю твою судьбу.
Вот ведь какая сволочная, какая чудодейственная штука – память, как наяву всё перед тобой проходит. И ещё больнее, чем наяву…
Коняк тронул Рогова за плечо:
– Уснул? Чахотку подхватишь. Сырость такая…
Они забросили сундучки в корму карбаса. Лошадёнка даже хвостом не шевельнула на этот шумок. Из-под брезента высунулось заспанное чистенькое лицо капитана.
– Вы чё, парни?
– Разводи пары…
Оттолкнулись баграми, карбас слегка развернуло, немного он поскрипел днищем по гальке.
Капитан опять упрятался под выцветшим брезентом, оттуда произнёс:
– За островом, парни, «Шорский прижим». Вы не противьтесь… Вода, она сама знает…
И поплыли. Рогов стал на правило, а Коняк – за вперёдсмотрящего. До вечера плыли, и ничего с ними не произошло.
Коняку надоело быть смотрящим вперёд, и назад, и по сторонам, он давно перебрался на корму к Рогову, разочка два прикладывался к своей алюминиевой посудине, рассуждал.
– И неправильные все эти края. Сибирь вот эта… А вот бы все тюрьмы, все правильные и неправильные лагеря изобрести в Крыму, или бы в Рио-де-Жанейро! Казнь-то какая! Садят тебя на законных основаниях, ты глядишь многие дни и ночи на эти богатимые земли, по которым сам Исус Христос не брезгал ходить. Видишь: бананы, тигры, молоко там с деревьев ручьём, буржуи, завзятые бюрократы расхаживают... Да при таком видении ни одного бы отступника от законов не осталось. Всех бы освобождали досрочно за слёзы на лицах...
Какие длинные речи стал произносить Коняк!
Рогов раз-другой и ещё раз ударил правилом. Карбас прямо в крутой прижим несло… Пожалел, что не догадался завернуть во что-нибудь непромокаемое фотографию. И жалко лошадёнку стало.
Но, видимо, вопреки всем лоцманским усилиям Рогова карбас всё же не стукнулся о скальный прижим.
Капитан вынырнул из-под брезента:
– Уже?! И не гробанулись! Чудо-юдо, ребятки… Теперь будем кашеварить до следующего переката…
Стали кашеварить, и каждый сам себе стал всякие сказки рассказывать. Коняк рассказывал себе сказки туманные: ему ещё надо было становиться гражданином в своей стране…, а как это делается, он не знал… Капитан сказывал про своё возвращение: как он будет возвращаться, если нет у него коногона, последний из шорских мальчишек ещё зимой сбежал в нахимовское училище… Рогов был сам по себе сказкой…
Жалко было шахту «Люба», Кузьму Кузьмича с его всегдашней мужской тоской, жалко было Ваню, который теперь уже почти полгода снова ходит в вольных охотниках, тайгой тешится и сам тайгу тешит. Он клятвенно обещал самолично доставить сказочной доченьке Рогова соболиную шубу. Соболиную, расписную, с горностаями.
Коняк спросил: на кой черт Кузьма выпросил ему прописку на руднике Центральном? Кузьма ведь точно знает, что Коняк будет существовать только там, где будет существовать со своей дочкой Рогов. Придется поскандалить с милицией и с некоторыми министерствами…
У села Атаманова, где река особенно взбрыкивала, а до города оставалось всего ничего, они расстались.
Рогов пошёл в ближний, какой-то теперь после пяти лет незнакомый, город. Коняк выбрался из карбаса ещё ранним утром, сказал лошади, дремавшей посреди лодки: «Ладно тебе плакать. Увидимся».
С городского телеграфа Рогов позвонил в горком.
Бондарчук сказал:
– А мы вчера и позавчера ждали твоего звонка. Самого тебя. И ребятки навстречу тебе выезжали – Сибирцев, Голдобин… Ах, Пашка! Надо тебе немедленно быть рядом со мной и надо тебе быть немедленно в Москве… Выбирай!
Рогов ответил: ему надо быть немедленно в Янауле. Есть такая счастливая земля в Башкирии.
Деньжат только маловато, и одежонка на нём не очень: милиционеры оглядываются, и самый родной ребенок может испугаться…
Денег всё же хватило, копеечка в копеечку. Даже на самолёт. О еде и не думалось. Пересаживался с местного самолета на дальний в Новосибирске, потом с дальнего на местный в Свердловске. В Янауле от аэродрома километров семь шёл пешком. Шёл и делал всё возможное, чтобы не торопиться…
В самом пристанционном городке выяснилось, что здесь воскресенье. Этого ещё не хватало. Но адрес детского дома кто-то из граждан сообщил….
Кое-как привёл себя в порядок посреди улицы, у артезианского колодца. Одёжка на нём была не из первосортных: стёганые штаны, рубашка безразличного цвета с кармашками, которые топырились от всяких бумажек – и справок, и ходатайств, и сообщений от организаций к организациям. И еще фуфайка через руку, и мешок за плечом. Лагерный картуз он засунул в карман. Так и не поредевшие русые кудерьки пригладил. И пошёл прямо через улицу к детскому дому.
 Деревянная щелястая калитка, за калиткой галочий ребячий переклик. За порогом маленькая испуганная женщина в синем халате.
Деревянная щелястая калитка, за калиткой галочий ребячий переклик. За порогом маленькая испуганная женщина в синем халате.
– Вы Рогов? Здравствуйте. Я – Ксения Захаровна. Заведующая. Мы посидим на этой скамеечке… Наташа много про вас знает. Ну, как многое… По фотографиям. На фотографии вы весь в орденах, офицер…
И скользнула не очень оскорбительно взглядом по нынешнему обмундированию Рогова. Приметила его запекшиеся губы. Пошла, принесла оловянную кружку воды.
– Выпейте, и не надо так волноваться…
И потом она заговорила как раз о том, что так хотелось знать Рогову, чего он постоянно ждал в письмах Любы и чего в этих письмах не находил.
Любу сняли с поезда здесь, в этом самом Янауле. Здесь и родилась Наташка. Потом три месяца Люба проработала в детском доме, да не столько проработала, сколько промучилась. Дочка сначала что-то прихварывала, а потом ничего, выправилась. А Любу уже заждались дороги, подкатили последние сроки перед экзаменами…
– Она была очень несчастна… – говорит нерешительно Ксения Захаровна. – Очень. Она три раза возвращалась сюда из консерватории, ещё когда Наташенька совсем маленькой была. Приедет – окаменеет вся, глаза у неё остановятся…
Рогов нерешительно кашлянул.
– Вы мне можете поверить! – вдруг прервала свой не очень связный рассказ Ксения Захаровна. – Я ведь не для того, чтобы…
– Не надо, – сказал Рогов. – Я ведь здесь тоже не для того…
Хотелось погасить волнение чем-нибудь неотложным, каким-нибудь словом или движением. Стали говорить о том, сколько времени понадобится Рогову, чтобы съездить в Москву и переделать там не такое уж великое количество дел и утрясти ещё некоторое количество забот. Сколько же понадобится для этого?..
Нет, это будет не очень долго, потому что ни одной лишней минуты Рогов не потратит на эту поездку… Ни одной минуты. Дня три-четыре разве что…
– О… – голос женщины опять подобрел, и на её маленьких скулах обозначились пятнышки румянца. – Такой срок совершенно ничего не значит.
Она оглянулась на ближний ребячий вскрик, кому-то погрозила пальцем, ещё раз оглянулась – быстрее – и теперь, глядя прямо в глаза Рогова, сказала:
– Она. Идёт. Видит.
Он встал, переступил порожек калитки и пошёл навстречу Наташке…
(Печатается с сокращениями
по изданию Кемеровского книжного издательства 1967 года).


