Красный Галактион. Встреча. Синий ветер Алатау.
Красный Галактион.
Встреча.
Синий ветер Алатау.
Галактион вставал рано. Он спускался во двор и сидел на лавке с семи до восьми. Шёл ли дождь, падал ли снег, завывала ли пурга или грело солнце, он хохлился на скамье по-сычьи и смотрел на густой топольник.
Жильцы привыкли к Галактиону: утрами сверяли по нему часы и меняли сезонную одежду. Должно быть, они вообще не представляли иной жизни, кроме той, начало которой давал Галактион. В этом таилось их житейское спокойствие. Но никто из жителей не знал, о чём думал их сосед, сидя на скамье и обратив к тополям большое задумчивое лицо.
– Сидишь? – бывало, смеялись бабы. – Сиди-сиди, что-нибудь высидишь. Тобой старухи зачали детей пужать…
– Наших не запугаешь, – отвечал Галактион. – Пример приведу: меня тоже в детстве пугали, а ничего – живу…
В другой раз и мужики осуждающе качали головами.
– Это что толку сидеть-то? Ну, еслив погода, слава богу, то ничо – сидеть можно, а еслив дожж?
– Человеку всё требно. Душа-то, если её на солнце держать, слащава получается. Тут и дождичку надо, и морозцу…
– Хитё-ёр… Сто лет прожить думат.
– Сто не сто, а свои отживу – занимать не стану…
Жил он отцовой горняцкой профессией, одолел её за двадцать лет разумом и воловьей силой. Не раз пытал судьбину – топило, заваливало, но Галактион упрямо выдюживал. Был он высокого росту, негорбый, ходил грузно, точно нёс на загорбке центнер-другой поклажи. Говорил низким голосом – слово от слова врозь, но всегда хранил в глубоких полынных глазах доброту, должно быть, в насмешку над крепким воинственным телом.
– Я знаю, пошто работаю, – судил он. – Могу пример привести, другие не знают. Они смену отбухают – им деньгу давай, а мне денег мало…
Было ему больше сорока. В квартире хозяйничала жена Роза, крепли дети – два парня и две девчушки. В просторном жилище из трёх комнат стояла дорогая мебель, и всего было полно, потому что в горняцком деле издавна не скупились.
Три года назад в предборье у Калинова ручья Галактион построил дачу, готовясь отдыхать, но к хозяйству остыл. Дома одолевала пасмурь, и в свободное время Галактион шлялся по городу, а то разбирал бумаги в шахтном комитете или просиживал на балконе для публики во время сессии горсовета. Вечерами же маялся во дворе, и его призывали молодые жильцы подладить печку или застеклить окно. Галактион соглашался, приходил и за делом говорил много и обстоятельно.
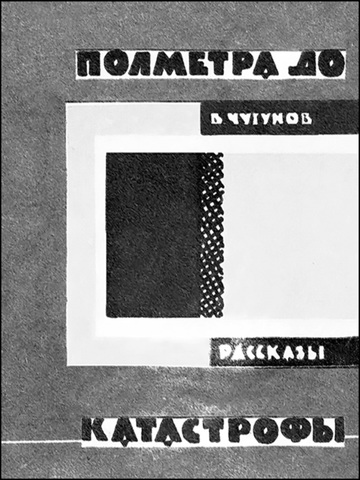 – У нас в городе щас какая проблема? Обслуживанье, я думаю. Так – что скажешь? Ничо. А обслуживанье – ни к чёрту. Это, то есть, как с вами в магазине разговаривают, в домоправлении… Приведу пример: опять же магазин. Что? На продавщице халат грязный, а когда и разодранный. Она что ни свешает, то бросит – на!.. А мне, может, с этого и в рот ничего не лезет. Вот мы и решаем в горсовете. Правильно наш Сёмка Гнездилов выступает: он за это дело, за культурное обслуживание всегда говорит. Об чём бы речь, а он всё своё. Нравится мне парень. Как зачнёт сыпать, откуда что и берётся – только слушай. В другой раз опять изберём, лютый малый…
– У нас в городе щас какая проблема? Обслуживанье, я думаю. Так – что скажешь? Ничо. А обслуживанье – ни к чёрту. Это, то есть, как с вами в магазине разговаривают, в домоправлении… Приведу пример: опять же магазин. Что? На продавщице халат грязный, а когда и разодранный. Она что ни свешает, то бросит – на!.. А мне, может, с этого и в рот ничего не лезет. Вот мы и решаем в горсовете. Правильно наш Сёмка Гнездилов выступает: он за это дело, за культурное обслуживание всегда говорит. Об чём бы речь, а он всё своё. Нравится мне парень. Как зачнёт сыпать, откуда что и берётся – только слушай. В другой раз опять изберём, лютый малый…
Галактион мазал печь или стеклил окно, а сам посматривал на хозяев.
– Зато Колька Мустыгин – пень пнём. Сидит – губы сквасит. За что ни скажут – за всё руку тянет – согласен…
– И охота вам на этой сессии торчать, дядя Галактион? – спрашивали хозяева. – Вы же не депутат…
– Мало ли что – не депутат. Все равно. Горсовет – рабочее дело, за ём присматривать надо. Как же? В другой раз и мой надзор нужен. Пример приведу: у сорок второго магазина на Комсомольском проспекте пивную открыли, а без уборной. Я на сессии в перерыве к председателю подхожу: Виталий Петрович, говорю, так и так, куда это годится? Надо либо пивнушку убрать, либо уборну сделать. Сделали уборну. А то ведь что? Пива мужики выпьют, а сходить некуда. Мелочь? А как в другой раз без этой мелочи? Хоть в карман сливай да носи. Или мужика какой-то год на площади голого ставили. Помните! Пятиметровый мужик стену перед собой толкал. Я же говорю, какое это искусство? Это же срам для женского полу. Бабы по площади ходить перестали…
– А по-моему, ничего, – возражал хозяин.
– По-твоему, – передразнивал его Галактион. – Много ты понимаешь. Я пример приведу. Как-то иду по площади – с работы, кажись, шёл – а вокруг мужика две девчушки крутятся и хихикают. А сами всё сзади норовят посмотреть. Чего, думаю, там интересного? Подхожу – ничего. Зад, как у колхозного быка, со всеми причиндалами, а в каждом причиндале – на вид по пуду. Вот, думаю, и искусство. Доброму-то в лицо смотрят, наверно, а не в зад… Пошёл утром к начальству. Убрали мужика, бульдозером сронили.
И Галактион склонял к плечу голову, довольный собой. А то говорил о работе.
– Шахтерня – это вам не баран чихал. Это мужики лютые. Под землёй старому дел нема. Пример приведу: у нас в бригаде работает дядя Ваня Пришеев. Что скажешь? Золото мужик. Но какая ему меж нас работа? Ему то куртку скобами прибьют, то спутают… А тут как-то лес на себе подтаскивали. Другим-то молодым или мне – что? Взял трёхметровую лесину и пошёл. А старому? Старому – беда. Все проказии с ним. В этот-то раз что? Комель ему кто-то подбросил, сырой-пресырой. Мужик поднял и – c ног долой. Тут хоть смейся, хоть плачь. Лютый шахтерня народ, что и говорить…
Галактион вытирал рукавом губы и смотрел в стену.
– Надо за культуру браться. Я так прямо и думаю…
Он уходил, но дома успокоиться не мог и приставал с разговорами к жене.
Роза подолгу молчала, но в конце концов сердилась и прогоняла Галактиона спать.
– Нет ума – своего не дашь, – жаловалась она соседкам. – Другие мужики как мужики, а этот? Упрётся ни свет ни заря – и сидит. Какого хрена, спрашивается, высиживает? Все равно подохнет, как все…
А Галактиону нравилось сидеть по утрам на лавке во дворе и каким-то далёким чувством сознавать, что это сидение нужно людям, жизнь которых всегда состоит из удобных и привычных мелочей.
Придя с работы, от нечего делать Галактион садился к столу и надоедал жене.
– Может, тебе, Милеевна, бобриковую шубу купить?
– Ты мозги не заговаривай, – отвечала Роза. – Лучше на дачу сходи – ягоду обери…
– Не лежит к даче душа…
– Вот, ядрена мать, навязался на мою душу…
– Ты, Милеевна, не ворчи… Потому что ума у тебя не ахти сколько и не понять тебе, об чём я думаю…
И Галактион уходил во двор.
В тёплую пору во дворе собирались мужики и стучали костяшками домино. Галактион никогда не играл, но подсаживался к мужикам в тополиную тень и, будто между прочим, начинал разговор.
– Уладилась погода… Вчера заходил на метеостанцию, сказали – тепло будет…
– Дык полмесяца дожж и дожж. Куда ешо? – отвечали ему.
– Дождь тоже нужен. Без дождя как? С дождём и хлебу благодать, и картошке. Рабочему классу это небезынтересно.
– Катился бы он, этот дождь, – срывался какой-нибудь парень, обычно с соседнего двора. – Страна большая – хлеб будет.
– Откуль он возьмется?
– У меня об этом заботы нет, – кричал парень. – Каждый о своём думает. Я стране уголь даю, а страна мне хлебушек подавай – вот и Вася-косой…
– Петух ты, – корил Галактион. – Я пример приведу: у тебя, сопляка, ещё детей нет, ты и не понимаешь. Вон дядю Стёпу возьми, Наумова, – у него семь душ. Раньше- то, когда дядя Стёпа молодой был, ему, к примеру, горстки пшеницы на день хватало. Так? А теперь их семь надо, горстков-то? Откуль они родятся? Из господи живёшь? Вот и пожалуйста. Так и хлеб. Народу помножилось – хлеба больше надо. А хлебари-то пошли, я пример приведу, как ты: давай и всё, а как – заботы нет…
Одни поддакивали, другие хитро щурились.
– Скрытый ты мужик, Галактион. И всё промеж нас какие-то разговоры проводишь. Что тебе?
– Как что? Заботу имею, обучить ли что…
«Сам-то много микитишь?» – смеялись игроки, хлопая доминушками. А кто-нибудь клонился к столу и просил: «Ты бы мне, Галаха, дачку лучше подарил, чем учить. Тебе, идейному, дачка-то ни к чему, блажь, а мне бы – народной массе – в самый раз…»
– И подарил бы, коль на пользу.
Галактион шевелился на лавке и хмурил брови.
– Это когда нет – кажется, вот бы надо, из кожи лезешь. А когда поимеется и – ни к чему, правду говоришь…
С ним не соглашались.
Галактион припадал к коленям, и его лицо дрябло от обиды.
К вечеру он уходил со двора, выпивал где-нибудь в одиночестве.
Возвращался темью, крадучись, по безлюдью.
В спальне садился на кровать жены и, обхватив могучими руками большую голову, рассуждал:
– Дурак я, Милеевна… Выпил, а для чего? Пример приведу: крадусь по дворам, как вор. Потому что людей стыдно. Увидют и будут говорить – пьяный Галактион. Невидаль им – пьяный…
– Спи ложись, маета, – ругалась жена.
– Не спится. Я, Милеевна, думаю. Вот, например, почему так? Для других стараешься, а выходит, для себя? И место тебе высокое дают, и денег больше платят, и хвалят. Выходит, когда для других делаешь, значит, для себя? Так?
Жена открывала глаза, глубоко вздыхала и переворачивалась на другой бок.
Галактион ложился и глухо кашлял.
Мысли сбивали одна другую, а до утра было долго. Галактион вставал, пил воду и враждебно смотрел на часы. Если было невмоготу, включал приёмник и сидел понурясь, слушая далекий голос.
На другой день он работал остервенело, жадно, точно в последний раз. Его огрузлая фигура тяжелела больше, шаги становились упористее. Легко, одной рукой, Галактион ворочал лесины и швырял их в лавную темноту, а там, сгорбившись, ставил их в ряд, распирая в щели пласта крупными машистыми ударами кувалды.
В один из таких дней Галактион спас человека.
Рухнувшей гранитной плитой тому придавило ногу. Вокруг ломалось крепление, и люди отступили, с ужасом ждали конца трагедии.
Галактион взял топор. Размазав по грязному лицу пот, он прошёл к товарищу тугими шагами и – раз! раз! другой! – хрястнул острием по колену, торчащему из-под плиты.
Потребовалось несколько ударов сердца и – всё.
Галактион вынес товарища, сел и закрыл лицо руками. А там, где только что лежала плита, клубилась густая пыль, взвихренная упавшей породой.
После, выйдя по шурфу на поверхность, люди курили, а Галактион сидел в стороне. Он задумчиво ковырял землю щепой.
К нему подошел молодой парень и лёг.
– Это вы здорово, дядя Галактион…
А на другое утро, как обычно, с семи до восьми он сидел на лавке во дворе, кутаясь в дождевик. А люди выглядывали в окно, сверяли по Галактиону часы и вытаскивали из шифоньеров болоньи…
Встреча
Пашку догнала подвода.
– Сядешь? – предложил мужик, хлопая рукой по краю телеги.
Пашка сел. Мужик оглядел его и покачал головой.
– Прожился, что ли? Пёхом-то?
Пашка ответил: денег у него сколько хочешь, а пешком идёт из идейных соображений.
– Экономишь, значит, – решил мужик. – Это понятственно…
«Во топор! – подумал Пашка. – Сам топор, видел топоров, а такого, видать, за колодой прятали…»
Был полдень. Горячий ветер бежал по неровному полю с густыми, ещё зелёными хлебами. Пахло лежалой пылью; колёса телеги проваливались в неё, поднимая жёлтое облако.
– Куда путь держим? – спросил мужик, пощупав материал Пашкиных джинсов. – Штанишки-то не дюже ловки для пешего хода.
«С твоими дерюгами не сравнить, – внутренне ощетинился Пашка. – Английские, за пару червонцев вырвал. Плохие, скажешь? Да застрелись…»
– К писателю тут одному на могилу иду, – сказал.
У мужика подобрели глаза.
– К писателю, говоришь? На могилку? Для каких целей?
Откровенно говоря, Пашка этого и сам не знал. С какой целью? Просто так: другие же ездят.
Из цеха вот Стёпка Буднев к Серёжке Есенину ездил. Стал на колени перед могилой, бутылку рядом: спи, мол, Серёга, мы тебя не забываем. Целый час стоял…
– Стал быть, из любопытства, – рассудил мужик, выслушав ответ.
Он хмыкнул, качая головой, и представился:
– Захар Голованов.
Подумал и протянул руку.
– Плотник я, свиноферму тут-кось строю. Коня вот у директора взял: надо имущество перевезть. Давечь у соседей оставил, и привезть некогда… Писатель-то родственником будет или как?
«Во колун! – снова возмутился про себя Пашка. – Думает: только к родственникам ездят… А я вот так просто! Приду, стану на колени и скажу: спасибо тебе, друг, за всякие твои книги… И пусть люди смотрят…».
– Какой родственник? – ответил Пашка. – Сроду такие родственники не снились…
– Пошто к живому-то не приехал?
Голованов положил на колени вожжи. Его ноги свисали с телеги, грузно раскачиваясь.
– К живому надо было… Живой-то – он, как ни говори, может, чего и дал…
«Смеётся, что ли? – подумал Пашка. – Нищего нашёл… У меня заработок три сотни в месяц. Может, я сам чего такого могу этому писателю дать…»
И, недовольный, переменил разговор.
– Наверно, совхоз слабенький: подводу, смотрю, выделили, а не машину…
– Не-е, совхоз слава Богу… – ответил Голованов, натягивая кепку. – А что касательно подводы, у меня имущества столько. Для чего же машину гнать?
Помолчав, он снова повернул на своё.
– И время тебе не жалко – к этому писателю ехать?
– А что мне оно, время? Его в карман не положишь. В телегу не запряжёшь…
– Ишь ты, едрени-фени…
Голованов посмотрел на Пашку с таким выражением, будто оценивал.
– Не запрягёшь, не запрягёшь…
Он пошаркал ладонью о край телеги.
– Время-то, его сколько хочешь…
Потом ехали молча. Пашка косился на Голованова, а тот глядел на хлеба с мягкой улыбкой и думал о чём-то.
«Мыслитель, – подковыривал Пашка. – Поди, врёшь про свиноферму? Ишь, глаза-то… Как у мастера нашего – сквозь перегородку видит. Смотри-смотри: ты-то за имуществом катишь, а я к писателю… Есть разница? Ну, так вот…»
– Хороший хлеб, — сказал Пашка.
Сказал таким тоном, будто похвалил телегу, на которой сидел.
– У нас хлебушки всегда хороши, – подхватил Голованов. – Любо посмотреть. Так то и разговор: самая Россия здесь. Где ему быть лучше?..
– Дождика бы сейчас…
– Дождичка бы, конечно, в данное время оченно нужно. Без дождику плохо, пропасть всё может, А сам знаешь, какое богатство. Коли хлеб на столе, как говорят, так и стол – престол, а как хлеба ни куска, так и стол – доска…
Он убил овода, севшего ему на руку, бросил в пыль под колёса и снова обратился к Пашке:
– Я вот о чём думаю. Чего ты на евонной могиле делать будешь, у писателя своего? Ну, понятно, к отцу с матерью на кладбище приттить, посидеть, вспомнить – дело потребное, а к человеку, который тебя и знать не знал… Баловство или как?
«Во пень! – окончательно решил Пашка. – Сам пень, видел пеньков, а этот ни в какие ворота не влезет. Думаешь, объяснять буду? Есть у нас в цехе один такой Мокавей Леха: ему сколько говоришь, и всё без толку…»
– Длинная история, Захар Петрович, – сказал Пашка, уклоняясь от прямого ответа.
– Нам спешить некуда, – успокоил его плотник. – Говори да говори. Сейчас ведь я как рассуждаю? И с жиру бесятся. Истинно слово. Один мой знакомый мешок значков наскупал и рад не рад. А что полезного? Ничего. Дурость. Раньше купцы этим развлекались, всякое барахло собирали…
«Смеётся же, гад, – неожиданно догадался Пашка. – Это он меня вроде как бы с купцом сравнивает: с жиру то есть я начинаю беситься. Да застрелись ты… Я в отпуске: что хочу, то и делаю. Захочу – к писателю, захочу – за границу. Сам-то плотником назвался, а поди, бригадир какой, имущество собирает… Кулак!»
Вдали показалась берёзовая роща, а за ней выплыл из-за гряды лес, голубоватый, будто в папиросном дыму. Небо над лесом поднималось круто, в ступеньках лёгких вытянутых облаков.
Навстречу прошла грузовая машина, подняв клубы пыли.
Захар Петрович закашлял, прикрывая кепкой рот, и показал на рощу.
– Завернём… Там водичка есть, коня напоить…
Они остановились под развесистой берёзой. Выпрягли лошадь, напоили. Захар Петрович достал из сумки провизию, сел перекусить, угощая Пашку. Тот отказался.
Разломив буханку, плотник посмотрел на густую траву вокруг и снова заговорил:
– Я всё думаю: детдомовский, наверно, – едешь к чужому человеку?
«Чего привязался? – окончательно рассердился Пашка. – Нормальный я: папка есть, мамка. Ну что? К писателю еду… Нельзя? Тебе за имуществом можно, а мне к писателю нельзя? Если к писателю, то дурак?..»
– В отпуске я, – сказал Пашка.
Голованов приветливо улыбнулся.
– Давно с таким интересом не разговаривал. Всё дела, как-то от жизни отстаёшь…
Захар Петрович вскинул глаза, и Пашке показалось, что говорит Голованов вовсе не то, о чем думает.
«Плотник – как бы и не плотник… А может, и плотник. Только сверхурочно ещё и депутат или член обкома. Видишь, как подходит? Интерес у него к разговору…»
– Я всё вот о чём, – продолжал Голованов. – Я так направление своих мыслей держу. Думаю: ты вот на могилу эту едешь… Может, кто направил тебя, послал то есть. Может, чего у тебя не хватало… Всякое может быть. Как со мной? Директор совхоза вызывает: «Где твоё имущество, Захар Петрович? Без имущества ты какой работник? Без имущества ты моряк: сегодня на моём корабле, завтра тебя – пфу! – пеной смыло. Езжай за имуществом…» А я так понимаю: его какое дело? На что ему моё имущество? На что?.. С имуществом беда одна. Его караулить надо, хлопотать. От имущества человек портится. Хоть брата моего возьми… Есть у меня брат Гришка… Так ведь что? Хороший был человек. А пристрастился к барахлу, всякие благости поимел, хоромы да всё благополучие, имущество это насправлял. И что? Пропал! Сейчас к нему в гости хоть не иди: и разувайся-то, и садись-то на этот стул, а не на другой. Что ты, мои матушки, едрени-фени…
Всё это я директору рассказываю. И ты думаешь, что мне директор отвечает? Говорит: «Все равно вези имущество. И без него на глаза мне чтобы не показывался…» Я вот теперь и соображаю: может, и тебя какой директор послал? Тебе вроде эта могила нужна, как зайцу стоп-сигнал, а ты иди…
«Во бревно! – выругался про себя Пашка. – Объяснять ему или не объяснять? На могилу я еду, понимаешь ты, дуб, или не понимаешь? Там писатель похоронен. Он книги про нас с тобой, дураков, писал… Ну, если ты такой грамотный, почему пустяка понять не можешь?»
– Наверно, ты сомневаешься: мол, плохо его похоронили? – снова спросил Голованов.
– Чего это его плохо похоронят? – сказал Пашка. – Не беднее нас с вами был…
– Не знаю, о чём и спросить ещё, – неожиданно сдался Голованов и долго смотрел на буханку.
Пашка с Головановым расстались на повороте в Лежнёвку.
Голованов свернул направо, а Пашка пошёл прямо, радуясь, что наконец избавился от навязчивого спутника. Всю оставшуюся дорогу он издевался над Головановым, повторяя про себя его вопросы и придумывая новые.
Он добрался засветло.
На кладбище у могилы писателя двое рабочих укладывали железобетонные плиты. Они рассказали Пашке несколько анекдотов, выдавая их за случаи из жизни умершей знаменитости, будто были с писателем на короткой ноге.
Пашка рассказал о встрече с одним чурбаком: во выдавал, застрелиться, а сам не понимает, для чего я сюда приехал. Ну, топор! Видел топоров, сам топор, а этого, видать, из колодца достали…
После Пашка сидел на кладбище один.
Над его головой устало шумел дуб. С мыска, прилипшего к обрыву, открывалась бесконечная даль – ввечеру с дымчатой поволокой, на границе, за лесом, сиреневая и зыбкая. Было что-то знакомое в этой дали, будто он уже видел её раньше.
Ещё не засветились звёзды, и небо, густо-синее над вершиной дуба, торжественно и немо смотрело на землю. Где-то близко шумела речка, и оттуда мимо могилы летали птицы.
Пашка долго смотрел на всё это и вдруг открыл для себя святую простоту: он приехал сюда за много километров, потому что ему жаль умершего, потому что он читал его книги и любил…
«А тому чурбаку ничего не мог сказать», – подумал Пашка.
Его вывел из задумчивости шорох травы.
Пашка оглянулся и увидел Захара Петровича. Голованов вышел из кустов, держа в руках кепку.
– Любопытство завладело – повернул лошадёнку… Думаю: вот ведь как люди живут, а меня за имуществом….
…Они ночевали на краю кладбища.
Светила луна, поливая синеватым молозивом густые онемевшие тополя. В траве спали гуси. Лошадь сонно переступала с ноги на ногу и вздыхала.
Захар Петрович скрипел телегой и повторял:
– А ты, едрени-фени… Смотри, как, выходит, красиво-то…
В августовский полдень с кряжей Горной Шории видны снежники Алатау.
Они нежно-синие. Над тайгой рябит воздух, накалённый солнцем.
Романтики говорят, будто там, далеко, у главного хребта, дует сказочный синий ветер.
Крутой тропой поднимались к горельникам Геннадий Дорофеев и Семён Лопатин. В чёрном пихтаче по грудь отросла жёсткая трава и резала руки. Запах смолы был тяжёл, густ и удушлив. Снизу, из логовины, затянутой рябинником, доносились голоса птиц.
Геннадий подошёл к гари, выждал Лопатина и показал на дальние гольцы, обёрнутые синими воротниками снегов.
– Подними мурло-то, глянь…
Лопатин бросил мешок с кедровым орехом, вытер рукавом куртки лицо, парное, красное, в рябинах, и глубоко вздохнул.
– Пошто логовиной не шли? Пошто опять на кручу попёр?
– Из логовины не видно, – сказал Дорофеев, садясь на поваленное обгоревшее дерево. – А отсюда как на ладони…
Лопатин грузно опустился на мешок и постучал кулаком по колену.
– Ты брось надо мной изгаляться. Я тебе говорю – брось. А то я хожу за тобой, хожу, но терпенье моё лопнет: исхлещу, как собаку.
Дорофеев снял с головы берет и засмеялся, показывая синеватые зубы. Он был приземист, темнолиц, нос – гнутой хребтиной. Парень что надо.
– Возьми, земеля, на полтона ниже. Не то в кусты сверну, и помаршируешь в глубоком одиночестве…
Лопатин достал флягу, жадно побрызгал водой на руку и смочил лицо.
– Я не бык – мешок по горам таскать…
– Не таскай. Я тебе говорил – не жадуй. А ты? До бесплатного дорвался? Взял бы немного и пошёл. Что?
Редкие брови Лопатина вздёрнулись на широкий, в розовых морщинах, лоб.
– Ну, что там особенного-то в твоих горах? – спросил он уступчиво, скользнув быстрыми глазами по далекому окоёму. – Горы как горы. А снег? Холодно – вот и снег…
Дорофеев покачал головой.
– Ты на гольцах-то был?
– Мне там делать нечего: за это деньги не платят…
– Люди не за деньги на белом свете живут…
– Слыхивал.
Лопатин положил на колени руки и колко глянул на Дорофеева.
– Ты ещё под стол не ходил, а я намантулюсь лето, а потом жрать нечего. А ты мне: не утробой, мол, живем…
– Я не к тому, – поправился Дорофеев. – Я об удовольствии.
– Ты об удовольствии, а я об жизни, – перебил его Лопатин. – Я в бродяжью жизнь не верящий…
Дорофеев хотел возразить, но вдруг заметил в Лопатине что-то смешное.
Геннадий озорно блеснул глазами, вскочил на поваленное дерево и истошно заорал:
– Беги, земеля, мишак…
Лопатин заметался по тропе – большой, неуклюжий. Потом схватил мешок и с мрачным ожесточением попёр кустами в логовину, с хрустом ломая сушняк.
Дорофеев опустился на дерево и сквозь смех прокричал:
– Назад, земеля! Проверка…
Когда Лопатин поднялся на тропу, он едва стоял на ногах. Бросив мешок, потряс кулаками.
– Чего побежал? – качаясь от смеха, спросил Геннадий.
– Я еще своё возьму, – сквозь зубы пригрозил Лопатин, упав на мешок.
– Шкуру жалко? – издевался Дорофеев.
Лопатин загнанно дышал и смотрел на тропу. Грязные слипшиеся волосы вылезли из-под старой фуражки. Его лицо удивляло простотой: в нём смешались непонимание и усталость.
– Ты вот смеёшься, – сказал он нерешительно. – А вдруг правда медведь? Сам говорил: самое время по тайге шастать. Возьмёт, выйдет и – вот тебе на… Куды? У тебя и ружьишка-то дрянного нет. Язык тока. А у меня семья.
Дорофеев прищёлкнул языком.
– Тусклый ты малый, Семён Батькович…
Лопатин неожиданно распрямился, снял линялую, порванную на локтях тужурку и стал переобуваться.
– Я в этом не виноватый, – сказал он. – Да и беда невелика. У меня батяня век был нелюбопытный, а своя коровёнка была, свинья, а то и две. В избу зайдёшь – всё, что надо. Вот тебе и возьми.
Дорофеев только вздохнул.
– В отца, небось, пошёл?
– А то как же? – ответил Лопатин. – Это что толку, когда в мать родишься? Беда. И тело жиже, и ростом ниже. И опять же – баба какая достанется? Чёрт с рогами. Люди поговаривают, что и пожары от этого. У меня свояченик – в родительницу. Ране на деревне все девки его были – расписанный парень, а нынче другой раз на весну горел. Теперя ходит да костерит старуху-то, мать…
– А ты как?
Лопатин соображал недолго.
– Думается, в нормальности. Плотничаю, с заработками. Изба справна, корова есть. Хозяйка на птицеферме работает. Ребята учатся. Я в свободное время промыслами занимаюсь: другой год к свояку на север езжу – рыбки привёз, ныне вот – орешки.
– Нашёл свободное время, – ехидно заметил Генка. – От уборки, небось, сбежал?
Лопатин натянул сапоги и притопнул одной ногой, другой.
– Чего мне от неё бежать? Я хлебом кормлюсь. Мы ещё в конце июля рожь откосили. Сейчас вот спашут – на озимь да на отаву как раз поспею. А вот ты, парень, я смотрю, ленив. Шляться бы где-нибудь, удовольствия получать, а работушка бы и на ум не шла. Нынче четверик, а уж который день от работы отлыниваешь? И тут – горстку орехов лень принесть.
Дорофеев натянул на голову берет и, недовольный, поднялся.
– Ты кончай, земеля, на меня баллон катить. Бери мешок-то, пойдем…
Семён Лопатин ещё раз притопнул сапогами и засмеялся широко, по-мужицки, гулко.
Горельниками поднялись они на увал. В лицо задул ветер. Берёзовая поросль вспорхнула мелкой листвой. Издалека, с тёмного межгорья, поднялся слабый гудок локомотива.
Всюду стлалась измятая, вспученная горбами земля в хвойном лесе, и только на востоке синим жаром обрывал её накаты главный хребет Кузнецкого Алатау.
Дорофеев шёл и думал:
«Отыскал гуся. Отпуск ходил выхлопатывал. Родных уломал – отдохну, надеялся. А этот баклан как набрёл на кедрач, так и сидел, пока мешок не нагрёб. Скряга… То ли дело в прошлом году старик приезжал: борода в живот, плечи – сажень. Всё с фотоаппаратом лазил, зверей снимал. Это я понимаю – человек».
Впереди волнами пролетела стая клестов и уселась на обитой ветром ели. Дорофеев остановился и стал смотреть, как лениво, но ловко птицы перебирались с ветки на ветку, цепляясь, будто попугаи, толстыми клювами.
– Чего опять? – в спину Дорофеева толкнулся Лопатин.
– Интересная птица. Смотри!
– Птица как птица. Чего на неё шары пялить?
– Ты брось мешок-то – глянь! А то придёшь домой, и рассказать нечего будет. Ярко-красные – это самцы, а зелёные – самки, а вот эти пёстрые – молодняк. Нынешние. Клесты гнездятся и зимой же птенчат выводят…
– Чего ж они, дуры, летом-то этим делом не занимаются, как все? – спросил Лопатин, опуская мешок.
Он устало посмотрел на солнце, запустил под рубаху руку, растёр грудь – запахло потом.
– У нас в деревне одна такая баба есть: когда все стирают, она оладьи печёт; когда все оладьи пекут, она лезет трубу чистить…
Дорофеев посмотрел на рябое лицо Лопатина, на быстрые глаза под козырьком фуражки и подумал: «Тёмный человек, а впопад отвечает, даже с интересом».
– Ладно, Лопатин, давай на добро, – смилостивился он. – Может, помочь?
Семён наморщил лоб и обхватил ногами мешок.
– Нет уж, дулю-фидулю… Ишь какой! Потом скажешь: давай пай. Я уж и сам как-нибудь допру…
Дорофеев презрительно сплюнул. А потом больше часа, пока шли хребтиной, издевался над мужиком, грубо и обидно высказывая напрямик, что он есть такое на земле.
А Лопатин злобился, бросал на землю орехи и грозил:
– Пришибу, неродыш… Ей-богу, пришибу. Возьму заместо мешка и об землю трахну…
Отдыхали в логовине на сухом бревенчатом накате.
Лопатин жевал хлеб, запивая водой из ручья. Полулёжа на мешке, он смотрел перед собой и не сгонял с лица комаров.
– Неродыш ты, парень, – повторял он упрямо. – Неродыш, а не шахтёр. От тебя рабочим человеком и не пахнет. Тебе бы только слоняться… да людей злить. Чего ты ко мне привязался? Чего ты меня начальникам водил? Отпуск выпрашивал? «Дядька приехал»… Какой я тебе дядька?
Дорофеев, обмахиваясь беретом, сидел на краю наката. Ему не хотелось объяснять всего. Он наблюдал за гадюкой, греющейся на гранитной плите. По-лебединому подняв над кольцами тела плоскую голову с немигающими глазами, змея надменно и жестоко следила за людьми. И это очень нравилось Дорофееву.
Он сидел долго и, казалось, не слушал спутника. Но вдруг засмеялся с какой-то болезненной озлобленностью, показывая Лопатину синеватые зубы, встал и ушёл в рябинник.
Он вернулся с коротким удилищем. Змея выше подняла голову и зашипела, но Дорофеев придавил её к камню и… взял в руки.
– Этим ты меня не удивишь, – сказал Лoпaтин. – Этой твари у нас сколь хошь…
Дорофеев резко сунул гадюку к его лицу и снова засмеялся.
Это походило на шальное ребячество, когда нет отчёта за поступок, а есть наслаждение им. Да, это было наслаждение – видеть, что Лопатин боится за свою жизнь. Боится даже тогда, когда знает, что он, Дорофеев, конечно, никогда не пустит на человека змею.
Геннадий смеялся, а Лопатин сначала обмер, увидев перед собой пронзающие ненавистью змеиные глаза и выскакивающий из пасти раздвоенной ниткой язык; потом отклонился, но Дорофеев ближе подвинул руку, продолжая хохотать. Лопатин закричал, неловко, в испуге, всплеснул тяжёлой рукой и ударил Дорофеева по локтю. Геннадий оборвал смех и выпустил змею.
Казалось, в тот же момент он вздрогнул. Бледный, обхватив ногу выше колена, Дорофеев пусто смотрел, как гадюка скользнула по бревну и упала в расщелину.
– Доигрались, – хрипло сказал Лопатин, бегая быстрыми глазами.
Геннадий опустился на колени, продолжая следить за расщелиной, где исчезла змея. Его губы стали бледно-лиловыми. На лбу выступили капли пота, а щеки и подбородок покрылись белым налётом, точно их обсыпали пудрой и растёрли.
– Что, парень? – суетился Лопатин. – Укусила тварюга? Да ты мне скажи – укусила?
Дорофеев перевёл на него взгляд, сел и разулся. На мякоти выше колена синели две ранки в ободе от мелких гадючьих зубов. Нога покраснела и распухла.
– Вот так вот, Семён Батькович, – сказал Геннадий.
Было жутко от его спокойствия.
– Ты сам виноватый, – ответил Лопатин, содрав с головы фуражку. – Это ты сам. Чего взбесился?
– Душу твою взбаламутить хотел.
– Она у меня и так взбаламученная. Неродыш ты, так и есть. Что делать-то? Пропадёшь же….
– Туда и дорога.
– Дурак ты, парень… Ложись-ка!..
Дорофеев покорно лёг и сжал зубы, а грузный, неловкий Лопатин распластался на накате и прилип большим ртом к ранам. Он сосал неистово, отплевывался и снова сосал, не замечая, что от ноги пахнет терпким мужицким потом, что она грязная и покрыта жесткими волосами.
– Ты мне её начисто отгрызёшь, – сказал Дорофеев.
Он смотрел в небо и пытался самому себе уяснить, почему спокоен. Случилось несчастье, смертельное несчастье, а он спокоен. Ведь он, как все, боится смерти. Сейчас же, когда столкнулся с нею грудь в грудь, она не казалась такой ужасной и мучительной, какой представлялась всегда. Может быть, оттого, что рядом крутился Лопатин, и нельзя было быть другим.
– Ничего не выходит, – выпрямился Семён, убирая со лба грязные волосы.
– Ничего не выйдет, – отозвался Дорофеев. – Ты не бойся, смотри на меня…
– А ты из шкуры не лезь! – вдруг озлобился Лопатин и точно протрезвел.
– Я на фронте не таких видел, и то жить хотели…
Дорофеев усмехнулся и качнул головой.
– И я жить хочу, но что толку…
Лопатин скривил губы, отмахнулся и неожиданно за поясом у Дорофеева заметил в чехле охотничий нож.
– Драть тебя надо за то, что ты жизнь свою ни во грош не ценишь…
Семён сбросил тужурку и разодрал на груди рубаху.
Перетянув дорофеевскую ногу выше и ниже укуса, он спросил:
– Косырь справный?
Не дожидаясь ответа, сорвался с наката, в минуту натаскал сушняка, разжёг костёр и сунул в него нож.
– У нас в деревне нонешний год на май лошадь человека потоптала, – стал рассказывать он, смотря на огонь, точно хотел подогнать его взглядом. – Соседа моего потоптала. Федьку Соплова. Спужалась лошадь аэроплана и потоптала. Думали – душу отдаст. А он через неделю поднялся и на работу пришёл…
– Надеешься, что выживу? – спросил Дорофеев. Но спросил так, как будто это было ему наплевать – выживет он или не выживет. И только сам знал: в душе он думал об этом и надеялся.
Лопатин буркнул в огонь:
– А куда мне тебя девать? По-человечески и похоронить не смогу.
Он взял с огня нож и подошёл к Геннадию.
– Ноне терпи…
Дорофеев закрыл глаза. А Лопатин опустился на колени, заскорузлой пятерней сдавил опухоль и твёрдо чиркнул ножом. Разом полыхнула кровь, Дорофеев закричал.
– Кричи, парень, тока не шевелись, – прошептал Семён.
Он перехватил левой рукой и с другой стороны провёл накалённым ножом. И только тогда почувствовал сам запах палёного мяса, и ему показалось даже, что под ножом закипела кровь.
Вложив нож в чехол, Лопатин прокашлялся и остатками рубахи перевязал ногу.
– Всё… Теперь пойдем, – сказал он.
Дорофеев лежал неподвижно и молча, перекосив рот и вцепившись молочными ногтями в накат. Лопатин шевельнул его – Геннадий открыл глаза, увидел перед собой лопатинское лицо и… заставил себя подняться.
…Они шли до позднего вечера. Дорофеев впереди, опираясь на палку, Лопатин сзади, чуть сгорбившись под мешком с орехом. Тропа ползла по болотистым кочкам, покатью, через кочебуры, коряжины, а они шли, и Лопатин удивлялся, что парень оказался сильным, и уж не было у него сомнения, что это настоящий шахтёр.
Геннадию же хотелось говорить, и он рассказывал прерывисто, что любит жену и дочь и что они дружно живут. Пусть Лопатин не думает, что только он болеет за свою семью. Дорофеев тоже болеет. И ещё как!
Потом говорил о синих ветрах на Алатау. Потом… Потом Дорофееву только казалось, что он говорил. Сил оставалось столько, чтобы идти и думать. Его охватило болезненное ощущение вины перед кем-то. Он запомнил это отчетливо и навсегда. В глазах стояла дочурка, а он смотрел на неё и думал: «Может, в последний раз иду по земле и уж никогда не смогу принести ей орехов и даже в этот… последний раз».
С темнотой они добрались до станции. И хорошо, что как раз успели к пассажирскому поезду.


