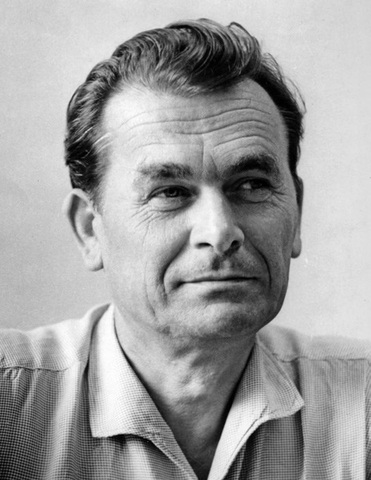Мутагенный фактор: как в Академгородке спасли генетику
Мутагенный фактор:
как в Академгородке спасли генетику
В уверенности, что не стены здания и не бюджет создают научные институты, а идея и люди, я спокойно смотрю в туманное будущее.
Николай Кольцов
Безмятежным летним днем 195* года от ворот одного из домов в поселке членов политбюро на Ленинских горах стремительно рванула с места черная эмка. Сергей Аджубей и Рада Хрущева возвращались в свою московскую квартиру после скандала, произошедшего между генсеком и его дочерью из-за разных взглядов на генетику. Хрущев покровительствовал Лысенко, считал его «настоящим мичуринцем», способным кратно увеличить урожайность сельхозкультур и решить продовольственную проблему во всей стране. Рада Никитична пыталась «донести истинное положение вещей». Заметив благодушное настроение отца, она в очередной раз начала объяснять невыполнимость обещаний Лысенко: пшеница не может переродиться в рожь, а капуста в брюкву. Но все оказалось тщетно. Хрущев пришел в ярость. «Мухоловы! Морганисты! Фашисты! Ненавижу!!!» — кричал генсек, пока Аджубеи спешно собирали вещи.
«О том, что именно из-за генетики отношения между Радой и Никитой Сергеевичем портились не один раз, нам рассказал Никита, внук Хрущева, когда однажды приехал в Новосибирск», — вспоминает академик Владимир Шумный1. Он свидетельствует, что Рада Хрущева неоднократно пыталась помочь генетикам и повлиять на отца. Но все было тщетно: «Хрущев, малообразованный человек, верил в коммунистическую партию как в господа бога и образованных людей патологически ненавидел. Даже само слово “коммунизм” произносил неправильно. “Коммунизьм”, так у него получалось. Ученых он мог терпеть только в случае очевидной практической пользы».
Спустя более чем 60 лет после скандала в доме Хрущевых мы сидим у Владимира Константиновича в его директорском кабинете в ИЦиГе2. Институт был создан в конце 50-х, в момент сильнейших гонений на генетиков. Сегодня Владимир Константинович — ученый с мировым именем, под его руководством институт добился значимых в мировом масштабе результатов, и знаменитая доместикация лис Дмитрием Константиновичем Беляевым — лишь одно из множества достижений. А тогда он был студент биофака МГУ, попавший в новый институт с легкой руки Николая Ивановича Дубинина.
Создание института и прорыв советской генетики — пример по-советски успешного коллективизма, противостоящего советскому же невежественному руководству. Об Академгородке, экспериментах Беляева есть множество публикаций в самых разных изданиях. Если бы можно было построить математическую модель научного сообщества, способного противостоять — и весьма успешно! — невежеству властей, то за основу стоило бы взять историю ИЦиГа. Но я снова задаю вопросы, кто виноват, и как удалось выстоять, и на что пришлось пойти ради общего дела.
Дерзость и надежда
Тупик — это отличный предлог, чтобы ломать стены.
А. и Б. Стругацкие, «Далекая радуга»
Фактически приговор генетикам подписал еще Сталин по итогам сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. Ученых-генетиков изгнали из институтов, учебники и книги исчезли с полок библиотек. На последующие два десятилетия генетика оказалась под запретом. Тем не менее в стране появился целый институт, специализирующийся на генетических исследованиях.
Если инициаторами создания Академгородка были академики Лаврентьев3, Христианович4 и Соболев5, то инициатива создания института генетики — целиком заслуга Игоря Васильевича Курчатова. «Первоначально в постановлении правительства [о создании научного центра в Новосибирске] наш институт не был указан, — рассказывает Шумный. — Но поскольку для дальнейшего развития атомного проекта Курчатову нужно было знать о влиянии радиации на живой организм как можно больше, то он уговорил Лаврентьева включить еще один институт, основным направлением которого станет именно радиационная генетика».
Для молодого советского государства радиационная генетика началась с Германа Мёллера, американского биолога, который в начале 20-х годов прошлого века впервые приехал в СССР по приглашению Николая Вавилова. По своим политическим взглядам Мёллер был левак, «приверженец дела социальной революции», он считал, что СССР движется к бесклассовому обществу, где генетические и евгенические исследования будут проводиться на новом уровне. В Советском Союзе Мёллеру понравилось, и в 1933 г. он перевез в Ленинград жену с ребенком и начал работать в лаборатории проблем гена и мутагенеза. В итоге именно за начатые в СССР исследования мутагенного влияния радиации на живые организмы Мёллер получил нобелевскую премию. Но в конце 30-х годов Мёллер, предупрежденный Николаем Вавиловым об опасности, был вынужден спешно покинуть СССР.
В поиске кандидатуры директора для нового института выбор Курчатова пал на Николая Ивановича Дубинина, который тогда заведовал лабораторией радиационной генетики в московском институте биофизики. Он уже тогда был известным ученым, генетиком мирового уровня, и его назначение было абсолютно оправданным. Шумный вспоминает, что Дубинин успел сформировать кадровый костяк института, пригласил заведующих лабораториями и молодых специалистов: «Человек пять студентов взяли из МГУ, включая меня, примерно столько же из Ленинградского университета. Дубинин распределил нас по лабораториям и наметил направления работы».
В Советском Союзе сформировались две научные школы — Николая Вавилова, где изучали генетику растений, и школа Николая Кольцова, посвященная молекулярной генетике и изучению животных. Дубинину удалось привлечь ученых обоих направлений.
«Я начал работать у Юрия Петровича Бирюты, бывшего вавиловского аспиранта. Также в институте работали бывшие сотрудники Вавилова — Александр Николаевич Лутков и Вадим Борисович Енкен, — рассказывает Шумный. — Старший брат Беляева, Николай, благодаря которому Дмитрий сформировался как ученый, был генетиком кольцовской школы. Благодаря Льву Степановичу Сандахчиеву имя Николая Константиновича Кольцова было увековечено в названии нашего наукограда».
Правда, на посту руководителя нового института Дубинину удалось проработать только два года. На пленуме ЦК в 1957 г. Хрущев вдруг со страшной силой обрушился на ученого — он-де мухолов, для практики ничего не делает, надо снимать. Но Лаврентьев все же пошел на высочайший риск и сохранил Дубинина на посту руководителя. Дубинин проработал до осени 1959 г., до того самого момента, когда Хрущев, возвращаясь из неудачной поездки в Китай через Новосибирск, вдруг узнал, что, несмотря на его высочайший гнев, «тот самый мухолов» по-прежнему руководит институтом. Второй раз спасти ученого Лаврентьеву не удалось. Дубинин ушел из института.
Что испытывал Дубинин, в дальнейшем наблюдая стремительный взлет основанного им института? Чувствовал ли он гордость за свою причастность к общему делу? Шумный вспоминает, что после увольнения Дубинин был в институте только один раз. «Я попытался показать ему институт, лаборатории, сотрудников, которых он пригласил, показать, над чем работаем… Но он не пошел. Я снова звал его, но — не пошел».
Дубинину было мучительно тяжело вспоминать события тех лет, свидетельствует журналист «Комсомольской правды» Леонид Репин, взявший у Дубинина интервью в 2017 г. По словам Репина, ученый говорил тихо, «как будто погрузившись в себя» — вспоминал, как в конце 40-х все аргументы ученых потерпели сокрушительное поражение перед пышными, ничем не подкрепленными обещаниями Лысенко накормить всю страну. Хрущев, несмотря на разоблачение культа личности, отношения к генетике не изменил, считая ее «буржуазной лженаукой».
Увольнение Дубинина стало тяжелым воспоминанием для сотрудников института, об этом много говорится в их коллективных воспоминаниях, в книге «Как приручить лису» Людмилы Трут и Ли Дугаткина6 и других источниках. Несправедливая жертва на пути общего дела. Для Лаврентьева выбор Беляева был логичным решением, поскольку Дмитрий Константинович был замом Дубинина и хорошо знал все его планы.
Познания извилистой тропою…
— Если не дурак — значит, у него есть какая-то сложная собственная концепция лысенковской галиматьи, — профессор покачал головой. — Значит, он раб этой доктрины. Приехал к нам помочь… Излечить от заблуждения, вернуть в лоно…
В. Дудинцев, «Белые одежды»
Новосибирский институт генетики — уникальный пример удачного сопротивления ученых репрессивной государственной политике, сконцентрированной в руках невежественных людей. Спустя десятилетия мы с удовлетворением констатируем: усилиями сотрудников ИЦиГа, а также руководства сибирского отделения АН СССР институт выжил. Более того, генетика как наука полностью реабилитирована и ее роль не подвергается сомнению. Но однозначного ответа, кто же именно был ответственен за разгром советской генетики, до сих пор нет. Лично Лысенко, который с высокой трибуны демонстрировал якобы «достижения мичуринской науки»? Или все же инициатива исходила от необразованных членов ЦК? Несмотря на официальное разоблачение лысенковщины, и сейчас появляются работы, где утверждается, что на самом деле Трофим Денисович — выдающийся ученый, провозвестник современных достижений молекулярной биологии и т. д.
«Так кто виноват?» — этот вопрос я поставила перед Шумным.
Вместо ожидаемых мною беспощадных слов в адрес сталинского любимца Шумный стал объяснять суть тогдашних научных разногласий. «Понимаете, в биологии есть два направления, одно истинное, другое… противоположное, скажем так. Это генетика и ламаркизм. Последнее направление все приписывает влиянию среды — и генов нет, и наследственности нет, только условия среды все формируют. Ламаркизм был развенчан в самом начале XX века. Но до сих пор есть люди, которые его придерживаются… Лысенко был ламаркистом».
Мягкость ответа знаменитого академика меня не устроила: «Послушайте, если Лысенко и его последователи действительно были учеными, то их задачей было установление научной истины. Ученый, обнаружив ошибки в своей работе, должен их признать, чтобы двигаться дальше. Иначе он не ученый, это по-другому называется. Лысенко, выражаясь сегодняшним языком, великолепный пиарщик, даже авантюрист».
Чем больше я давила, тем больше Шумный приводил обстоятельства, которые могли оправдывать лысенковцев. И подытожил: «Да, они могли искренне заблуждаться». «Неужели? — изумилась я. — Лысенко всерьез верил во всю эту чушь, в превращение неживого в живое и т. п.?» Мягко, но уверенно Шумный уточнил свой ответ: «Он вполне мог искренне заблуждаться, надеясь на науку — как на чудо».
Стремясь к справедливости, Шумный отметил, что при личном общении сам Лысенко производил приятное впечатление. «Помню, раз весной в Горках Ленинских мы студентами шли куда-то. Идем, он вдруг останавливается, наклоняется и берет несколько комков земли с делянки. Держит в руке, мнет и задумчиво так говорит: “Нет, еще рано сеять. Почва холодная. Надо дня три-четыре подождать”. Есть такие ученые, которые действительно по-своему чувствуют землю. Она живая для них».
Но и у самого Беляева была не менее удивительная способность понимать процессы интуитивно и целостно, отсюда его многочисленные предвидения. «Из виденных за всю мою научную жизнь тысяч ученых, научных сотрудников, в СССР и за рубежом, — таких, как Беляев, единицы. Это совершенно определенный тип людей. Это фанаты науки, для которых вся жизнь — служение во имя высшей цели», — отметил ученый.
Таким образом, не только Шумный, но и его коллеги, включая самого Беляева, оправдывали Лысенко, считая истинным виновником разгрома генетики лично Сталина. Так, смягчая вину Лысенко, Беляев ссылался на раннюю работу Сталина «Анархизм и социализм», где «зеленый марксист» отдавал предпочтение ламаркизму перед дарвиновской теорией. Таким образом, Сталин, принимая решение о разгроме советской генетики, исходил прежде всего из собственных ошибочных научных взглядов, а не фальсификаций Лысенко.
Возможно, оправдание Лысенко новосибирскими учеными-генетиками — тот же самый психологический феномен, что и отмеченный Иосифом Бродским у себя «проклятый дар всепонимания, а следовательно всепрощения»7. Вспоминая развязанную против него травлю, Бродский отмечал, что по отношению к самим участникам системы — допрашивающим его следователям, судьям, и даже журналисту, опубликовавшему разгромную статью в отношении него, — он ненависти не испытывает: «Кого я не мог простить, это правителей страны — возможно, потому, что никогда ни с одним не соприкасался».
Все так: гораздо проще считать источником всех бед не своего бывшего сокурсника, в общем, неплохого парня, а далекого, никогда не виданного товарища Сталина. Тем более что сменивший его Хрущев оказался еще более одиозным в своей ненависти к науке и образованию.
Но если Лысенко — лишь приверженец ламаркизма, то Сталин и Хрущев — только сторонники крайнего прагматизма и суровой целесообразности в трате народных денег. Когда страна не в лучшем положении, то логично поддерживать только сугубо прикладные, нужные именно сегодня народному хозяйству исследования, не так ли?
Пожалуй, справедливости ради стоит обратить внимание на тот факт, что Сталин исходил из обещаний мичуринца «в корне изменить состояние сельского хозяйства», увеличив его продуктивность в неправдоподобно короткие сроки. В стране, обескровленной войной, об этом можно было только мечтать. Сталин, жестко спрашивающий результат, и представить не мог, что обещания Лысенко — несбыточные. «Сталинские соколы» отвечали за свои обещания головой, и проживи Сталин чуть больше — участь Лысенко была бы предрешена. Но на место Сталина пришел Хрущев, в системе ценностей которого ученые с их фундаментальной наукой были на последнем месте. И Лысенко невероятно повезло, он не ответил за ложь, за свои нереализованные обещания, за попытки расправиться с новосибирским институтом и другими учеными.
Но мнение Беляева в отношении Сталина не изменилось даже после того, как всплыл факт заступничества Берии за Вавилова. Об этом Беляеву стало известно в ходе подготовки сборника очерков «Выдающиеся советские генетики», который вышел еще при Брежневе, в 1980 г. Как вспоминает жена ученого, биолог Светлана Аргутинская, письмо Николая Ивановича Вавилова к Берии, написанное в 1941 г. из московской тюрьмы, предоставила Екатерина Тимофеевна Васина8.
«Как истинный патриот, он писал, тревожась не за себя, а за Родину, что готов положить все силы, чтобы помочь стране. Ему было обещано ходатайство об отмене смертного приговора и предоставление полной возможности научной работы. Но через три часа после разговора об этом, во время паники в Москве в связи с эвакуацией, его отправили в саратовскую тюрьму, в город, где он работал в юности, где он погиб от пневмонии и голода», — вспоминает Аргутинская.
Таким образом, Николаю Вавилову могла быть уготована участь Сергея Королева — улучшение бытовых условий и создание всех необходимых условий для работы, и в дальнейшем соответствующее признание.
По данным Шумного, за Вавилова хлопотал Прянишников9, по просьбе которого Сталин заменил Вавилову высшую меру на пожизненное. «В панике всех узников Бутырки, где он, если не ошибаюсь, сидел, эвакуировали в Саратов. Там — страшный голод начался… Кто с ним сидел, рассказывали… Умирали целыми бараками. Николай Иванович не выжил. Где его могила, неизвестно. Но на входе в саратовское кладбище, где хоронили заключенных, сейчас стоит памятник ему. С Саратовом у Вавилова многое связано, он там начинал свою деятельность, его знаменитая работа “Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости” написана именно в Саратове. Он вернулся в город, где начиналась его такая стремительная и яркая научная деятельность».
В чем движущая сила, брат?
— Он уже прошел! — сказал сидевший рядом с ректором человек с лимонной бледностью в узком лице и с огромной синеватой шевелюрой.
В. Дудинцев, «Белые одежды»
Рассуждая с позиций сегодняшнего прагматичного времени (хотя какие времена не были прагматичными?), решение Беляева уехать в Сибирь было чистой воды безумством — равно как и вся затея создания Академгородка. Правда, идею консолидации научных кадров во глубине сибирских руд мог в полной мере оценить такой человек, как Лаврентий Берия, но он к тому моменту уже пал жертвой в борьбе кремлевских группировок за власть. И была большая удача, что Хрущев, ненавидевший интеллигенцию и образованных людей, все же не стал препятствовать развитию фундаментальной науки.
Внешняя сторона жизни Беляева довольно подробно описана. Последние точки над «i» поставил его сын Николай в своем очерке10, вышедшем в позапрошлом году. Он рассказывает об отце, казалось бы, буднично, но каждая деталь дышит любовью и живым ощущением личности ученого. «Избежать ненужного пафоса» — так он объяснил свою задачу. Но поскольку наша цель — попытаться определить формулу, позволившую состояться научному прорыву вопреки крайне неблагоприятным внешним обстоятельствам, то наша статья, возможно, ему не понравится. Ибо никакой Академгородок, никакие научные результаты в генетике не могли состояться без служения науке, Родине и человечеству в целом. Это высокие, но верные слова. Единственное, отметим, что герои бронзовеют вовсе не из-за попыток понять и осмыслить их жизнь, а от тоскливой казенности и парадной мишуры. Но взгляните на памятник Беляеву — тем, кто остался продолжать его дело, тухлый официоз явно не свойственен.
Вернемся к мотивам, которые двигали Беляевым. Исходя из воспоминаний современников, он отказался по крайней мере от двух возможностей, вполне благоприятных, если не безоблачных, с точки зрения материальных благ. В дальнейшем он — наравне со многими сотрудниками института — сделает еще один шаг в пользу не самого практичного выбора.
О шансах продолжить после войны «многообещающую военную карьеру» пишет в своих воспоминаниях Светлана Аргутинская11. Перспективы эти, к слову, стали следствием крайне рискованного шага — уйти добровольцем на фронт в первые же дни войны. Для Беляева, ранее нигде не служившего, отправка добровольцем почти наверняка означала верную смерть. Но решение созрело мгновенно. Ученый оставил начатый эксперимент по «изучению наследственных признаков у таких интересных животных, как сибирская лисица» в одном из звероводческих совхозов Тобольска, «собрал нехитрые пожитки и явился в военкомат». Удивительно, но, по свидетельству Беляева, таких, как он, «было в тот день много. Сознание того, что Родина в опасности, как-то сразу сближало совсем незнакомых, соединяло нас в единое целое…»
У Беляева были веские моральные основания быть в оппозиции к власти, а значит, по логике сегодняшних так называемых либералов («так называемых» — ибо к истинному свободолюбию не имеют не малейшего отношения. — Я. Я.) по крайней мере остаться в стороне. «Он был из семьи священника, отец сильно пострадал от коммунистов. Однажды в бытность свою студентом Беляеву пришлось даже искать работу, чтобы помочь отцу заплатить начисленные ему налоги. Брата, уехавшего работать в Грузию, арестовали и расстреляли как врага народа», — указывает Шумный. Но в первые дни войны Беляеву, как и миллионам других, мысль «остаться в стороне» даже не в голову не приходила.
Сегодня, когда предпринимается столько попыток переписать итоги Великой Отечественной войны, дискуссии о том, как «было на самом деле», разгораются с новой силой. Показателен ответ монахини матушки Адрианы (в миру Натальи Малышевой), которая объясняла в интервью «Российской газете» незадолго до своей смерти: «Знаете, я ведь до сих пор себя спрашиваю: ну как такое было возможно? Столько было до войны репрессированных, сколько разрушено церквей! Я лично знала двоих ребят, у которых отцов расстреляли. Но никто не таил злобы. И эти люди поднялись над своими обидами, все бросили и пошли защищать Родину»12.
В итоге ученого зачислили рядовым пулеметчиком и отправили в часть под Москвой. «А в 1943 г. Сталин издал приказ присвоить всем добровольцам с высшим образованием офицерские звания и “использовать по назначению”», — вспоминает Шумный. Он вспоминает, что погоны появились только после Сталинграда, до этого офицеры носили «кубики»: «Беляеву как лейтенанту дали два “кубика” и приписали к создающимся на случай применения немцами химического оружия химико-биологическим войскам. Но он только формально относился к батальону химзащиты, на деле он продолжил воевать в прежнем качестве. Закончил войну он уже майором».
Но в Беляеве всегда чувствовалась офицерская жилка. «Мне кажется, что если бы он не ушел в науку, то стал бы кадровым офицером и достиг бы и на этом поприще значительных успехов», — говорит Шумный.
Беляев продолжил работать в Институте пушного звероводства. Эта отрасль для послевоенного времени была стратегической. До освоения нефтегазовых месторождений Сибири было далеко, и пушнина являлась одной из важнейших статей советского экспорта. Потребности в валюте диктовали темпы развития, новые подходы и научные исследования только поощрялись. В итоге разработанные советскими специалистами технологии, системы кормления и пр. стали признанными во всем мире стандартами. Так, гонимая властями, генетика перебралась из академических институтов на зверофермы.
«В звероводстве без генетики ничего не сделаешь. Чтобы получить мех определенной окраски, надо знать генетические механизмы наследования, как скрещивать. Иначе можно такого наворотить… безнадежно испортишь породу», — говорит Шумный. По его словам, Беляев состоялся как крупный специалист уже к началу войны, его знали по всей стране.
Специалистам пушного звероводства разрешалось вести преподавательскую деятельность, участвовать в конференциях и симпозиумах, готовить научные работы. На фронте Беляев мечтал, если вернется — доведет до конца свой труд «Основы генетики и селекции пушных зверей», проверит на практике свою гипотезу о доместикации лис. Лаборатории пушного звероводства подходили для этого как нельзя лучше. Но идея поехать в Сибирь и там полностью сосредоточиться на научных исследованиях покорила его — несмотря на риск13.
Переезд в Академгородок был шагом в полнейшую неизвестность. Сложно было предугадать итог задуманного Беляевым эксперимента. Смелое предположение могло оказаться ошибочным, пополнив копилку неизбежных на пути научного познания отрицательных результатов. Но для отдельно взятого ученого отрицательный результат в генетических исследованиях не сулил ничего хорошего. «Мухолов! Бесполезный теоретик!» — возмущенные крики генсека легко преодолевают четыре тысячи километров.
Беляева возможная неудача не остановила — возможно, сказалась его собственная генетика. Сын священника, он знал цену широких путей и прочих соблазнов. Более того, он увлек своей идеей молодую выпускницу, Людмилу Трут. Бросив все, с мамой, ребенком и мужем она вслед за Беляевым также отправилась в далекую Сибирь14.
…И отвага
…Знаешь, был такой святой Себастьян. Он тоже отирался. В стане язычников.
А. и Б. Стругацкие
«Чтобы перспективный ученый согласился уехать из Москвы в Сибирь? Многим эта затея казалась совершенно сумасбродной. Конечно, для этого требовалась определенная психологическая ломка. Но я был глубоко убежден, что найду единомышленников. Ведь в Москве накопилось много ученых, получивших прекрасные научные результаты, но не имевших условий для дальнейшего развития своих идей. В Сибири же они могли рассчитывать на большую самостоятельность, получить людей, помещения, средства — все необходимое для реализации своего потенциала», — вспоминал Лаврентьев15. Правда, его планы встретили упорное непонимание со стороны научного начальства. Так, по возвращении в Москву он зашел к президенту АН СССР А. Н. Несмеянову и рассказал ему о сибирских планах. «Несмеянов: “Никто не поедет”. Я назвал четырех, когда назвал пятого, Несмеянов сказал: “Что вы говорите, а я считал его умным человеком…”»16
Умный — значит, прагматичный, способный «трезво оценить ситуацию», соблюсти собственный интерес в условиях изменчивого политического вектора. Но Лаврентьев сделал ставку на тех, кем движут иные мотивы, нерациональные. Правда, реальность оказалась такова, что очарование романтики быстро испарилось. Показателен опыт помощницы Беляева Людмилы Трут, которой для контроля над экспериментами пришлось зимой ездить по соседним зверосовхозам. Мороз — лютый, ждать транспорта приходилось в неотапливаемых помещениях или вовсе на улице. После одной из таких поездок, когда на станции Сеятель при минус тридцати пришлось стоять почти час, Трут решила бросить все и вернуться в Москву. К счастью, дома мама и муж в буквальном смысле отогрели ее, и Трут решила продолжить работу.
Более того, Сибирь не спасла генетиков от высочайшего начальственного гнева. «Первые лет пять нас все время пытались закрыть. Только лысенковцы раза три пытались. Постоянно ездили комиссии ЦК, ВАСХНИЛа и т. д. У всех была одна задача — найти какие-то нарушения и закрыть институт. Лысенко этому очень способствовал, тогда он был в силе. Хрущ кричал на всех пленумах: “Слава Лысенко!..” Впрочем, как и Сталин…» — вспоминает академик Шумный.
А нарушений хватало. Одним из главных направлений было изучение материальных основ наследственности, долгие годы подобные исследования в СССР были практически запрещены. Если бы не Лаврентьев, спасти институт не удалось бы. Удивительно, каким образом Лаврентьев мог сориентироваться в далекой от математики отрасли, ведь имидж Лысенко как «настоящего почвенника, настоящего мичуринца» очаровал многих.
«Именно Лаврентьев был первый наш защитник на всех уровнях», — констатировал Шумный. Он вспоминает, как однажды возвращался вместе с академиками Христиановичем и Соболевым. «У них была какая-то проблема, всю дорогу спорили, как быть. “Министр против, ничего не сделаешь”, так получалось. И Христианович вдруг говорит: “Всё. Идем к Лаврентьеву, он найдет выход”. Соболев засомневался. Христианович убедил его: “Пойми, он ведь кого угодно — раскачает… Он ведь если вцепится, от него просто так не отделаешься…” И они поехали».
Шумный узнал: действительно, Лаврентьев сдвинул дело с мертвой точки, на самом высоком уровне — убедил, договорился. «Договариваться в условиях, когда у тебя нет рычагов давления на вышестоящее начальство, — это целое искусство. Михаил Алексеевич аргументировал, доказывал, как аксиому, очевидную пользу — от фундаментальной (!) науки… Умел».
Некоторые задачи имеют нетривиальное решение, и Лаврентьев, как математик, это хорошо знал. Шумный с удовольствием рассказывает такой случай. «Раз приехала очередная комиссия из Москвы. Мы тогда еще в городе сидели, на Советской, 20. И кабинет Михаил Алексеича тоже там был. Дубинина уже не было. Комиссия ходит, ищет, к чему придраться, как закрыть нас. Зашли к Лаврентьеву. То, се. Тут звонок ему по вертушке17. Лаврентьев снимает трубку, говорит: “Да. Приехали. Сейчас у меня. Да. ЦК считает, что институт должен быть? И я тоже так считаю. Надеюсь, что и комиссия так считает”. Положив трубку, Лаврентьев пояснил комиссии — вот, из ЦК звонили, интересуются вашей работой. Комиссия переглянулась между собой и на всякий случай удалилась из кабинета. В Москве еще несколько лет выясняли, кто же именно из ЦК Лаврентьеву звонил. Чье было указание и куда дует ветер…
А наши потом как-то прознали — вроде это Христианович звонил Лаврентьеву из соседнего кабинета. Прошли годы. Уже после того, как Михаил Алексеевич ушел с поста председателя сибирского отделения, я решился спросить, правда ли это они с Христиановичем все тогда придумали. Он посмеялся от души, но — ни намеком не показал, ни да, ни нет. Так и унес эту тайну с собой».
Обладая значительной властью и, в силу ума, опыта, смекалки, еще более огромными возможностями, Лаврентьев весьма спокойно относился к своей персоне. Он прощал даже ситуации, когда его авторитет публично оказывался под вопросом. Когда Беляев, узнав о передаче стройплощадки ИЦиГа Институту катализа, напрямую публично обратился к президенту Академии наук Келдышу — через голову присутствующего там же Лаврентьева, тем самым обозначив его слабость как руководителя сибирского отделения АН в этом вопросе, — Лаврентьев не стал сердиться. А впоследствии одобрил его решение.
Гордость и предубеждение
— Абрам, ты самокритику любишь?
— Нет.
— Почему?
— Антисемитизмом попахивает.
Рассказано академиком Шумным
Харизматичность и притягательность Беляева, качества, которые с восхищением отмечают его близкие и соратники, могли сыграть роковую роль в карьере ученого. Харизматики вызывают полярные чувства — не только восхищение, но и недоброжелательство. Искренне радуются успехам только настоящие друзья, и не факт, что среди близких и соратников таковых большинство. Но основателям Академгородка и тем, кто откликнулся на призыв, удалось свести влияние фактора зависти к минимуму.
«Зависть в научной среде? Да, есть», — прямо ответил Шумный. Руководителю, который проработал 22 года директором ИЦиГа, 15 лет замом у Беляева и знает лично практически каждого сотрудника института, можно верить. По его оценке, в институте соотношение «нормальных людей с хорошим, спокойным характером» и «других людей» такое же, как и для «человеческой популяции в целом»: 90—95% на 10—5%.
«Но вот этот небольшой процент — это совершенно другие… страшные люди. Они убеждены в своей гениальности, причем отсутствие научно значимых результатов их не останавливает, — разъяснил академик. — Недавно ко мне один такой заходил. Спрашиваю, сколько ученых повторило твои эксперименты и сколько подтвердило. Ни один. Как так, почему? Они слабаки. Не понимают».
Но Лаврентьев ценил только результат. Поэтому структура сибирского отделения — не та формальная, прописанная на бумаге, но существующая в виде множества человеческих связей — включала в себя «купол», совокупную систему ответа руководства отделения на атаки со стороны верхних эшелонов власти. Созданный с применением всей палитры жизненного и номенклатурного опыта участников, «купол» обеспечивал ученым возможность мирно работать и развиваться.
Именно благодаря усилиям Лаврентьева удалось выбрать Беляева членом-корреспондентом Академии наук. Несмотря на очевидные научные достижения Беляева, кандидатура его дважды была отклонена действующими академиками. «На третий раз Дмитрий Константинович, уезжая в отпуск, попросил меня не подавать на него документы — какой смысл, все равно голосуют против, — вспоминает Шумный. — Спустя несколько дней меня вызвал Лаврентьев и спросил — выдвинули Беляева, нет? Я объяснил, что он отказался, потому что “какой смысл”. Лаврентьев потребовал срочно подготовить документы и отправить в Москву. Вечером того же дня мы сидели у него. “Дед” был в хорошем настроении, попросил секретаря принести список академиков общей биологии. Читал имена и спрашивал, как будет голосовать тот или этот академик, за или против Беляева. Мы прошли весь список и выяснили, что Беляеву для избрания не хватает одного-единственного голоса. “На кого бы ты поставил?” — спросил Лаврентьев. На мой взгляд, наименее жесткую позицию занимал академик Николай Васильевич Цицин, директор главного ботанического сада». На этот раз Беляева приняли в академики, и Цицин, как узнал Шумный, проголосовал «за». «До сих пор остается загадкой, как математик Лаврентьев, сидя в Новосибирске, мог повлиять на московского академика-биолога. Но факт остается фактом, Лаврентьев убедил Цицина, и его голос оказался решающим».
У Беляева имелся существенный минус — он не был членом КПСС. Шумный отмечает, что были объективные препятствия для его вступления в партию: несмотря на знаменитое сталинское «сын за отца не отвечает», расстрелянный брат и отец-священник мало совместимы с биографией строителя коммунизма. Справедливости ради стоит сказать, что и сам Дмитрий Константинович, хотя и фронтовик, вовсе не горел желанием вступать в ряды КПСС. При этом антикоммунистом и антисоветчиком Беляев никогда не был.
Единственное, что он позволял себе, так это некоторую долю скрытого юмора — по отношению к партийным церемониям и процедурам, вспоминает Шумный. «Тогда на каждом предприятии были партийные ячейки. Одно время я был секретарем парторганизации. Представьте: очередное собрание. Надо пригласить директора. Я иду к Беляеву: “Дмитрий Константинович, у нас собрание, приходите”.
Он (скромно так): “Если пригласите, приду”.
Я: “Так мы и приглашаем вас!”
Беляев: “Пожалуйста, проголосуйте, чтобы я мог присутствовать”.
Иду на собрание, ставлю вопрос на голосование: кто “за”, чтобы пригласить Дмитрия Константиновича Беляева? Единогласно. Иду обратно к Беляеву: “Дмитрий Константинович, единогласно”.
“Хорошо”, — соглашался Беляев и покорно шел.
Но его присутствие не было формальным — он активно участвовал в обсуждении, и предлагал, и выступал».
Очевидно, что Беляев, равно как и миллионы советских людей, разделял «ведущую роль КПСС, союза коммунистов и беспартийных в эпоху развитого социализма» и т. д. — и проблемы реальной жизни, которые надо решать доступными инструментами, в том числе по партийной линии.
Безжалостны судьи. Стражник свиреп
В конце концов, противник обладал таким мощным оружием, как Большая Круглая Печать, и нам нечего было ей противопоставить.
А. и Б. Стругацкие
Михаил Алексеевич Лаврентьев смог выстроить систему взаимоотношений со всеми ветвями власти, включая всемогущее КГБ. Первый отдел, наблюдая за генетическими исследованиями в ИЦиГе, вел себя вполне корректно. Шумный, отвечая на мой вопрос, отметил, что у ИЦиГа всегда был тот же куратор, что и у «Вектора», при этом кагэбэшники «держали всех на крючке, проверяли». «Разные люди работали. Особенно запомнился последний. Он был врачом по профессии. Мне было интересно, как он оказался в КГБ. “Мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться”, так пояснил. Но он проработал недолго, буквально пару лет. Потом он ушел из института, и я потерял его. Знающий, приятный человек. Жаль».
Лаврентьев, безусловно, обладал всей полнотой информации о деятельности институтов, но при этом доносы и вообще мелкие пакости терпеть не мог. Однажды, рассказывает Шумный, Лаврентьеву поступил донос на ИЦиГ. «Тогда я еще был в ранге и. о., — вспоминает ученый. — Разгар рабочего дня, и вдруг меня срочно вызывают к председателю. Прибегаю, но не в президиум, где он редко бывал, а в гидродинамику. Захожу, сидит Лаврентьев, его зам Лавров и первый секретарь нашего райкома Яновский.
Лаврентьев меня спрашивает: “У вас в виварии — чума?”
“Михаил Алексеевич, — говорю, — такого быть не может — всех животных, что привозим, проверяем несколько раз”.
Он: “Давай так. Я тебе даю полчаса, ты бегом в виварий и мне перезвонишь. Но (чеканным голосом) если ты меня обманешь, я тебе не завидую”.
Мы с Лавровым — бегом обратно в ИЦиГ. Естественно, никакой чумы у наших мышек нет, ее и быть не могло. Мы с Лавровым постояли на крыльце, поговорили. Полчаса прошло, звоню, докладываю: “Чумы нет!” “Точно? — спрашивает Лаврентьев. — Ничего нет?” “Ничего нет, — говорю. — А кто вам сказал, что у нас чума?” “С ним теперь я сам разберусь”.
Потом я узнал, кто это был. Но говорить не буду. И что с ним стало, тоже не буду говорить. Михаил Алексеич был… хозяин. Дед. Мы, особенно молодежь, так его за глаза звали. Иногда говорили — Великий Дед… Его побаивались».
Потепление отношения к генетике началось только после 1964 г., когда, наконец, сняли Хрущева, вспоминает Шумный.
Осенью 1964 г. Никита Сергеевич был смещен с поста главы государства, и вместе с этим начался процесс падения Лысенко. В газете «Правда» напечатали программную статью Беляева о возрождении генетики. Помимо возобновления исследований, необходимо было менять все содержание курсов в вузах, создать научный журнал, общество генетиков и селекционеров, укомплектовать сельхозпредприятия специалистами, владеющими знаниями по генетике.
Вряд ли у Брежнева была четкая позиция по вопросу наследования признаков живых организмов, скорее, он придерживался китайского принципа «пусть расцветают все цветы», развиваются все науки, полагает Шумный. «Первые десять лет при Брежневе были самые лучшие для нас и развития науки в целом, — вспоминает ученый. — Помню, как он приехал в Новосибирск. В оперном театре организовали всеобщий партактив, меня включили в состав сибирского отделения академии. Спортивный, подтянутый, Брежнев чуть ли не бегом поднялся на трибуну. Он говорил минут сорок, безо всякой бумажки, сильно, ярко, о регионе, о проблемах и возможностях. После Хрущева он производил сильное впечатление».
От Хрущева Академгородок спасли. Брежнев, в отличие от своего предшественника, обладал определенной широтой взглядов. Но настоящим испытанием стали 90-е годы. «Развал союза — это аналог Брестского мира, позволившего прийти к власти большевикам. Это был чудовищный договор. Но либералы, Борис Николаевич перещеголяли Владимира Ильича. За две недели развалили страну и 14 республик разбежались, как мыши из вивария!.. А ведь страна имела запас прочности и еще могла существовать», — вспоминает Шумный.
Блеск глаз и сердца бой
Рой мушек, как поблескивающий дымок, вырвался и растворился под лестничным потолком.
В. Дудинцев, «Белые одежды»
Беспартийный генетик Беляев выезжал за рубеж, причем не только в соцлагерь, но и в капстраны. Но классический соблазн советского интеллигента — остаться за рубежом — не волновал его. «Даже в мыслях не было», — с удивлением взглянув на меня, ответил Шумный на вопрос, отчего Беляев не уехал. «В 1972 г. я пробыл восемь месяцев на стажировке в Швеции. Какая скукотища!.. Ждал, когда уеду домой. И когда наш самолет наконец приземлился в Шереметьево и я спустился по трапу, то был готов в буквальном смысле — землю целовать родную, радуясь, что вернулся».
Помолчав, Шумный добавил: «И тогда, и сейчас есть те, для кого заграница как манна небесная. Они уехали. Но для нас-то смысл — добиться результата в исследованиях, развивать науку, студентов, наконец, учить… Беляеву в голову не приходило, что можно остаться за границей».
Шумный вспомнил, как старший сын ученого Николай уехал работать в Англию. «Беляев до конца верил, что сын вот-вот вернется. Но он не вернулся. Уже лет тридцать там живет. А младший сын работает у нас в институте».
Советская система, так называемый железный занавес не помешали Беляеву занять свое место в мировой генетической науке. Его доклады на международных научных симпозиумах неизменно вызывали огромный интерес. Не меньший ажиотаж вызывали лекции Беляева в Новосибирске — приходили не только студенты профильного факультета, но и медики, научные сотрудники институтов Академгородка, сотрудники сельхозинститута. Об этом вспоминают и помощница Беляева Людмила Трут, и жена — биолог Светлана Аргутинская, доктор биологических наук И. И. Кикнадзе и другие.
Беляев переписывался со многими зарубежными исследователями, был избран президентом Международной генетической федерации, и до сих пор входит в пятерку самых цитируемых генетиков мира по своей теме. И это при том, отмечает Шумный, что он не спешил публиковаться — возможно, помня о печальной судьбе своего брата и его учителя, Николая Вавилова. При жизни он так и не успел обнародовать все результаты своих работ.
Тем не менее итоги деятельности Беляева впечатлили современников. Даже далекие от биологии сотрудники Академгородка, жители Новосибирска знали или хотя бы слышали об удивительном эксперименте с «беляевскими лисами», сократившем многовековой путь эволюции до фантастически короткого срока.
Именно эта народная известность помогла Беляеву и после смерти. «Памятник нам сделали — вот этот, где лисичка протягивает Беляеву лапку, а он ей — руку. Настало время оплачивать и забирать. А мы институт, бюджетная организация. У нас нет такой статьи расходов, как “оплата памятников выдающимся сотрудникам”», — говорит Шумный.
Традиционный способ в нашу информационную эпоху — организовать сбор средств через интернет, но институт не сделал ни одной публикации. Тем не менее помощь пришла откуда не ждали. Удивительным образом помощь приходит в самый отчаянный момент.
Институт не только был создан в самое неблагоприятное время, но и смог пройти через разные периоды истории страны, пережить гонения, испытание безденежьем. И это не последние вызовы, которые стоят перед коллективом ученых.
1 Шумный Владимир Константинович — советский и российский генетик, академик РАН. С 1986 по 2007 г. — директор Института цитологии и генетики СО РАН.
2 ИЦиГ — Институт цитологии и генетики СО РАН, организован в числе первых десяти институтов Сибирского отделения Академии наук СССР в 1957 г.
3 Лаврентьев Михаил Алексеевич — советский математик и механик, основатель Сибирского отделения АН СССР и новосибирского Академгородка, академик АН УССР, академик АН СССР и вице-президент АН СССР.
4 Христианович Сергей Алексеевич — советский и российский ученый в области механики. Академик АН СССР.
5 Соболев Сергей Львович — советский математик, занимавшийся математическим анализом и дифференциальными уравнениями в частных производных. Герой Социалистического Труда. Лауреат трех Сталинских премий и Государственной премии СССР.
6 Ли Дугаткин, Людмила Трут, «Как приручить лису (и превратить в собаку)», М., 2019.
7 Иосиф Бродский, сборник «Меньше единицы».
8 Дмитрий Константинович Беляев: книга воспоминаний. Новосибирск, 2002.
9 Прянишников Дмитрий Николаевич — русский агрохимик, биохимик и физиолог растений, основоположник советской научной школы в агрономической химии.
10 Дмитрий Константинович Беляев. Штрихи к портрету. «Наука из первых рук», 2020, № 1.
11 Дмитрий Константинович Беляев: книга воспоминаний. Новосибирск, 2002.
12 Игорь Елков, «Повестка о призыве». «Российская газета» от 30.04.2015.
13 Справедливости ради стоит заметить, что именно зверосовхозы, особенно в первые годы, выручили Беляева, предоставив материальную базу для масштабного эксперимента. К слову, по данным Л. Трут, в ходе исследований было задействовано около 50 тысяч лисиц.
14 Ли Дугаткин, Людмила Трут, «Как приручить лису (и превратить в собаку)».
15 Зоя Ибрагимова, «Сибириада академика Лаврентьева». В кн: «Созидатели»: очерки о людях, вписавших свое имя в историю Новосибирска». Новосибирск, 2003.
16 Аганбегян А. Сибирь не понаслышке. М., 1981.
17 «Вертушка» — система правительственной телефонной связи в СССР.